И почему это мне...
И почему это мне должно быть интересно читать про чью-то жизнь, да ещё такую наивную, такую… в общем, то, что я называю розовым. Сказать, что начало книги у меня буксовало – значит, ничего не сказать. И даже наличие медведя в качестве одного из главных героев не спасало: что отец, что мать – были глупые, молодые, наивные, сошлись они совершенно, как мне показалось, беспочвенно, и просто чудо, что связь эта не полетела к чертям в ближайшие годы. Так или иначе, а читать это было невыносимо скучно, самым сложным было себя заставить сесть, развернуть и продолжить продираться дальше, и при всей моей нелюбви к аудиокнигам, мне в голову даже стали закрадываться мысли, не прослушать ли оставшуюся львиную долю: так меньше шансов у лени одолеть и усыпить мой мозг в трясущемся вагоне: глаза закрыл, а звук всё равно в уши литься же будет, никуда от него не денешься. И когда я дочитал до номера под названием «приём на работу», который даже зачитал вслух на кухне своему медведю (ничего удивительного: «у каждого должен быть свой умный медведь») – настолько он был ржачный, этот отрывок, очередная ходячая деятельность, отнимающая время для чтения с экрана, таки вынудила меня скачать аудиокнигу.Это был поворотный момент, это был счастливейший случай. До сих пор я слышал лишь рассказы с радио Звезда, в исполнении пары-тройки чтецов – не плохих, однако не тех, от которых приходишь в восторг и писаешься кипятком сутки напролёт, – да однажды прослушал «Бен-Гура» Уоллеса, с великим трудом, постоянно засыпая. Восторги были раньше, когда я услышал ливановского «Старик и море» – настолько сильные, что спустя много лет, когда я читал книжку в оригинале, мой мозг эти английские слова преобразовывал в его голос и его интонации. Всё, что было после – было – ну, такое, середнячковое. До сих пор.
И почему это мне должно быть интересно читать про чью-то жизнь, да ещё такую наивную, такую… в общем, то, что я называю розовым. Сказать, что начало книги у меня буксовало – значит, ничего не сказать. И даже наличие медведя в качестве одного из главных героев не спасало: что отец, что мать – были глупые, молодые, наивные, сошлись они совершенно, как мне показалось, беспочвенно, и просто чудо, что связь эта не полетела к чертям в ближайшие годы. Так или иначе, а читать это было невыносимо скучно, самым сложным было себя заставить сесть, развернуть и продолжить продираться дальше, и при всей моей нелюбви к аудиокнигам, мне в голову даже стали закрадываться мысли, не прослушать ли оставшуюся львиную долю: так меньше шансов у лени одолеть и усыпить мой мозг в трясущемся вагоне: глаза закрыл, а звук всё равно в уши литься же будет, никуда от него не денешься. И когда я дочитал до номера под названием «приём на работу», который даже зачитал вслух на кухне своему медведю (ничего удивительного: «у каждого должен быть свой умный медведь») – настолько он был ржачный, этот отрывок, очередная ходячая деятельность, отнимающая время для чтения с экрана, таки вынудила меня скачать аудиокнигу.Это был поворотный момент, это был счастливейший случай. До сих пор я слышал лишь рассказы с радио Звезда, в исполнении пары-тройки чтецов – не плохих, однако не тех, от которых приходишь в восторг и писаешься кипятком сутки напролёт, – да однажды прослушал «Бен-Гура» Уоллеса, с великим трудом, постоянно засыпая. Восторги были раньше, когда я услышал ливановского «Старик и море» – настолько сильные, что спустя много лет, когда я читал книжку в оригинале, мой мозг эти английские слова преобразовывал в его голос и его интонации. Всё, что было после – было – ну, такое, середнячковое. До сих пор.
Теперь же я слушал Ерисанову, с того момента, как был поставлен номер с медведем. Естественно, я его переслушал – и снова поржал. После этого наконец-то вскоре открыли первый отель «Нью-Гэмпшир» – а значит, всё, что было до открытия, можно считать прологом, растянувшимся на сотню страниц, слишком долгим, чтобы не прийти в раздражение. Детские фокусы с прослушиванием были забавны, отношения со сверстниками – чересчур жестоки, несложно было представить, к чему это всё может привести (представить мне было сложно другое: во-первых, Фрэнни 12, а ей ещё рано идти в школу – или в Америке очень странная система была в то время, но я потерялся так-то, во-вторых – как школьные старшеклассники все до одного могли мечтать о заднице 12-летней малолетки – мне абсолютно непонятно. Ну не бывает такого. Но ладно). Короче говоря, привело это к изнасилованию, и вот тут-то мне и начала нравиться книга. Безумно нравиться! Чем? – реакциями, словами и действиями персонажей. Удивительно, как в этих, до недавнего времени, казалось бы, пустоголовых подростках, их отце и матери вдруг что-то зашевелилось, проявился характер, возник намёк на образ мыслей, внутренний стержень, способность рассуждать и применяться не к тому, что важно тебе, а к тому, что важно другому. В сущности, предпосылки были – например, когда Фрэнка из лужи доставали, но тот случай, как менее серьёзный, не позволил так ярко проявиться характерам героев.
Надо же, мне, не слишком искушённой в аудиокнигах, нравится Ерисанова – удивились мои побокальники – многие, говорят, ругают её. Есть ли на свете кто-нибудь (или что-нибудь), кого бы ни разу никто не обругал? Мнится мне, нет. А Ерисанова читает с теми же интонациями, которые возникают у меня, когда мне приходится что-либо читать вслух, хотя ориентировался я всегда на советские спектакли, радиопостановки и вообще то, что слышал с радио (всё детство на кухне болтало радио Россия). То есть, близко мне её исполнение, ажно очень.Удивительно в повествовании Ирвинга вот что: несмотря на многочисленные спойлеры, которые он то и дело допрежь происходящего забрасывает в омут своих строчек, что твои рыболовные крючки, делает он это так расчётливо, что лишь травит душу читателя, подманивая всё ближе, заставляя всё быстрее читать и читать и читать, а потом, по достижении цели, сердце – сжиматься, а нас – замерев, переживать щемящую боль от ухода в мир иной очередных персонажей, к которым успел привыкнуть, сроднился с ними, уже полюбил их. Я в автобусе недавно ехал и наблюдал перед собой пятилетнего птенца – вылитого Эгга, такого же громкоголосого и невозмутимого своими громкоголосыми вопросами, будто уверенного, что вылупился он, живёт и существует именно для того, чтобы задавать вопросы – маме, незнакомому деду, едущему с ним в автобусе, незнакомому мне… Но Ирвинг действует в истинно чеховской манере, и раз упомянутое вскользь, что семья всегда летала в разных самолётах из предосторожности, выстреливает: самолёт с матерью и Эггом разбивается. Это был настоящий конец первого отеля, не тот момент, когда они приняли решение о переезде за год до того, а именно это, словно жирная чёрная точка, которую наверняка поставит потом Лилли в своём случайно написанном романе. Роман Лилли Ирвинг описывает так живо, что не верится, что его нет и быть не может, потому что Лилли и сама-то выдуманная, как же нет, а что же я читаю сейчас, как не роман о первом отеле Нью-Гэмпшир, а затем и о втором, и о третьем – Лилли ведь собиралась писать продолжение! – Вряд ли это роман Лилли, – говорит мне другой мой внутренний голос – он же всё же от лица среднего брата. – Которого зовут Джоном! – возражает первый – Так же, как Ирвинга… Впрочем, конечно же, в биографии Ирвинга кроме географии мало общего с его персонажами – уж во всяком случае, с такой большой семьёй с кучей братьев и сестёр, которая, несмотря на то, вышла из под его пера живее всех живых. И тем не менее, Ирвинг создал потрясающую мистификацию с абсолютным ощущением реальности нереального: особенно штырит, когда персонажи начинают обсуждать фильм, который сняли по роману, написанному Лилли, в котором снялась в роли самой себя Фрэнни… Подспудно всё же стараясь отдавать себе отчёт в нереальности всего описываемого, мне сложно было поверить в действительно существующего кумира Лилли – Дональда Джастиса, чьи строчки – удивительно хрупкие, удивительно тонкие, удивительно точно и больно бьющие по самым непредсказуемым слабым местам – в переводе на русский бесподобны. Только эта их отточенность в переводе и давала надежду, что хотя бы это – не сон, что его – писателя, с его стихами можно найти, откопать, прочитать и перечитывать ещё и ещё, и, может быть, даже подсесть на ту же иглу, миновать которую не удалось Лилли – но и как не подсесть? Если бы Дональд Джастис был частью мистификации Ирвинга, почти невозможно, чтобы его так красиво, так совершенно, грациозно и щемящее перевели на русский в ходе перевода романа! И всё-таки «почти»?.. Дональд Джастис существует, раз-два-три-четыре-пять – я иду его искать, ночью в яндекс, утром в гугл, был квадратный, станет кругл… нарыл статью в «Иностранной литературе», автор которой прошёлся по стихотворению «Сорокалетние мужчины», заявив, что оно «типично для следующего, так называемого молчаливого поколения», поскольку «отражает сознание благополучного, остепенившегося гражданина, с семьей и домом, купленным в рассрочку». Либо автор статьи вообще не понял, что Джастис пишет как раз не о благополучии, а о зародившемся в среде этого благополучия внутреннем смятении, неустойчивости, зыбкости, либо я не понял, что хотел сказать автор статьи. Удивительно, но в книге Ирвинга больше переводов стихотворений Джастиса, чем результатов по русскоязычному запросу его имени в гугле. Значит, предстоят мне раскопки, а это – ужасно хорошо!Что мне больше всего не нравится – это то, как маркетинг выдирает цитаты из контекста в этой книге. Очень многое стоит за надписью «террорист и порнограф – одно и то же!», залихватски бездумно вынесенной на обложку одного из изданий, настолько много событий и связей, что без них она обессмысливается. О значениях таких фраз, как многократно употребляемое персонажами в разговорах «проходи мимо раскрытых окон», или помянутое мной в начале рецензии «у каждого должен быть свой умный медведь», не читавший книгу может только догадываться – и 100%-ная вероятность, что его догадки не увенчаются успехом. В минус маркетологам и в плюс Ирвингу, сумевшему ввести в книгу такие кодовые фразы, понятные лишь малому кругу лиц, и посвятить читателя, прежде не имевшего никакого отношения к этой семье, во все оттенки их смыслов. Ведь это одна из проблем в творчестве писателей – писать так, чтобы узкие вещи были понятны и интересны совершенно другого кругозора людям… 464, господа! 464!Сюжет второго, венского отеля Нью-Гэмпшир, я попытался пересказать побокальникам и понял, что несу дичайший бред. Однако дикостью он казался лишь на первый взгляд. Вот выдержка из хронологии террористических акций в «Терроризме и террористах» К. Жаринова:
Учитывая сумбур, творящийся в Европе 80-ых, легко верится и в существование между этажами террористов и проституток, и в заминированный автомобиль. Кончилось это всё плачевно, но героически: гордостью распирает за слепого старину Фрейда (нет, не того Фрейда, а вас снова в аннотации ввели в заблуждение), за его смекалистость и храбрость, и почему-то не удивляет слепота отца. От Фрейда многое досталось в наследство этой семье: медведь по имени Штат Мэн (по поводу перевода этого имени я также крючился в начале: наверняка в оригинале имя звучало как Стэйтмен – ну вот, нашла: State O\' Maine – что было гораздо благозвучнее и логичнее для имени. Ни одному русскому не придёт в голову сказать, что я, такой-то сякой-то, из города Москвы – мы скажем просто: из Москвы, с Урала, из Барнаула… Поэтому и имя медведя в данном случае воспринимается криво: не говорят так, тем паче, не ложится это сочетание на язык в качестве имени), мотоцикл, второй отель, бейсбольная бита, слепота, умная медведица Сюзи… Второй отель Нью-Гэмпшир кончается трагедией, как и первый, поэтому когда Ирвинг описывает в конце третьего отеля, как Джон говорит медведице Сюзи выйти на снег, позабавить детей их постояльцев, всё во мне буквально голосит от ужаса: неужели Джон забыл судьбу их первого медведя, как он мог её забыть? Ведь он же сейчас собственноручно подписывает смертный приговор умной медведице Сюзи, неужели жизнь ничему не научила? Ведь они не учатся, совершенно: полицейский умер от сердечного приступа из-за их с Фрэнни проделки, из-за столь же неожиданного Фрэнкова «подарка» с чучелом Грустеца умирает от того же и дед. Я сжимаюсь в предчувствии удара – Ирвинг же всякий раз устраивал этой семье душераздирающие сюрпризы – но, совершенно неожиданно, беда обходит стороной, и лишь отец укоряющее об этом говорит, что умную медведицу Сюзи могли же убить… значит и автору приходила в голову эта мысль. Однако он словно бы снимает с семьи проклятие, оставляя открытый финал, а ведь с каким содроганием ждёшь на фоне всеобщего равновесия и благополучия, после слов Фрэнни, что ребёнку «надо подумать», что он «слишком большой», – что вот сейчас хрен им, а не долгожданный ребёнок для Джона, хрен им, а не Фрэнни…Кстати, любопытна в книге выборочность принятия инаковости: гомосексуализм и бисексуальность принимается как норма, а вот за любовь между кровными родственниками обидно до слёз, а между тем, что мешало бы им любить друг друга, попросту не имея детей? Хорошо, что после этого они нашли своих людей, а если бы не нашли? Была бы эта, намеренно ими же самими разрушаемая связь, единственным возможным приводящим к теплу событием?..По итогу, я влюбился в «Отель» – в книгу, во всех его персонажей, влюбился в автора, влюбился в Ерисанову… Она начитала больше 500 книжек – и я, влюблённый, всех их теперь хочу переслушать…Просто неизмеримо огромный спасиб Ане в последней инстанции letzte_instanz за великолепнейший совет в Чипомобе, открывший мне столько перспектив для раскопок вокруг и внутри!
Пятилетка в три тома (а лучше - больше!)
Школьная вселенная, анархоптах плюёт на всё и читает внеклассику.
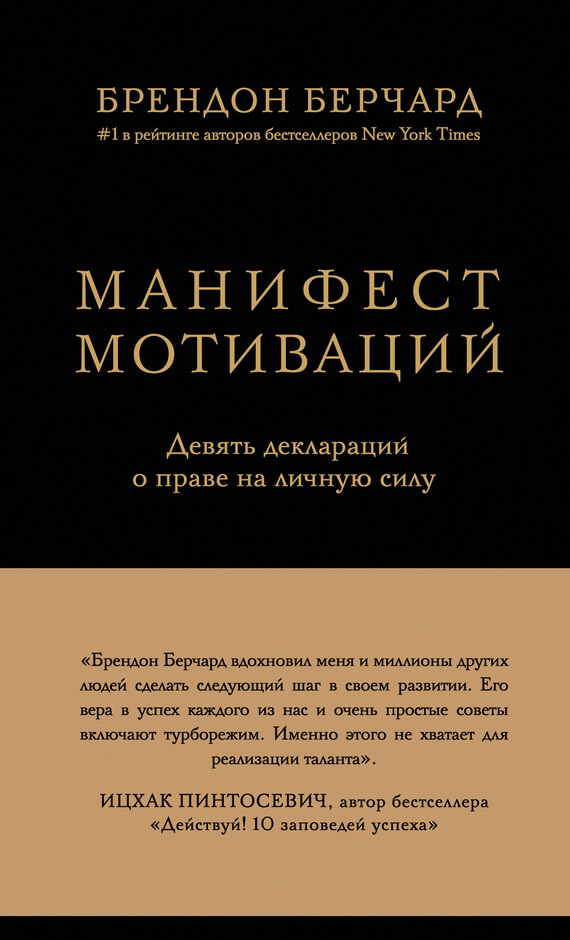 Все форматы
3.6 / 16
Манифест мотиваций. Девять деклараций о праве на личную силу
Автор: Брендон Берчард
Все форматы
3.6 / 16
Манифест мотиваций. Девять деклараций о праве на личную силу
Автор: Брендон Берчард
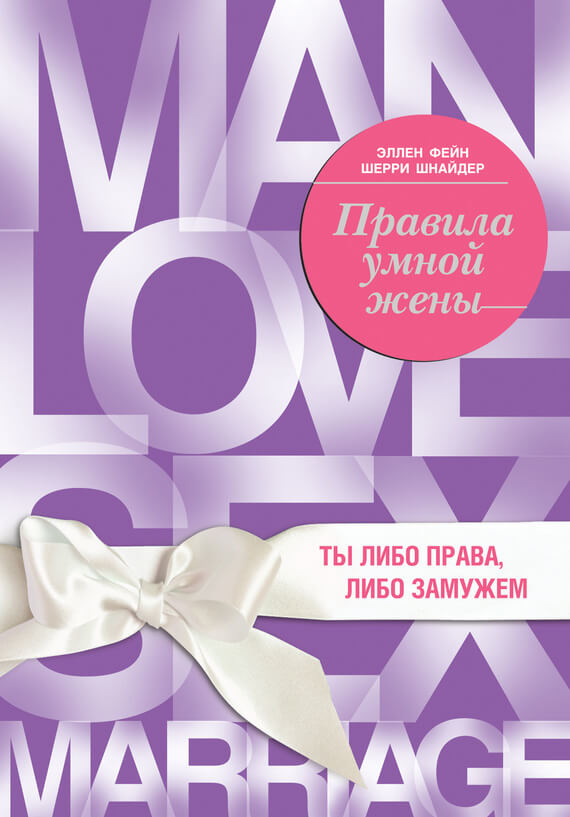 Все форматы
3.4 / 378
Правила умной жены. Ты либо права, либо замужем
Автор: Шерри Шнайдер
Все форматы
3.4 / 378
Правила умной жены. Ты либо права, либо замужем
Автор: Шерри Шнайдер
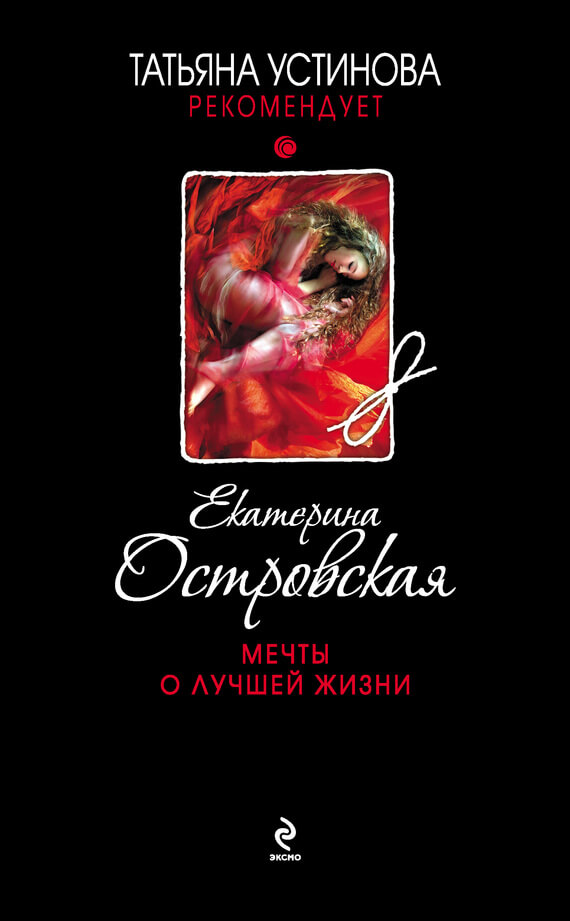 Все форматы
3.7 / 21
В корзину
Мечты о лучшей жизни
Автор: Екатерина Островская
2 $
Все форматы
3.7 / 21
В корзину
Мечты о лучшей жизни
Автор: Екатерина Островская
2 $
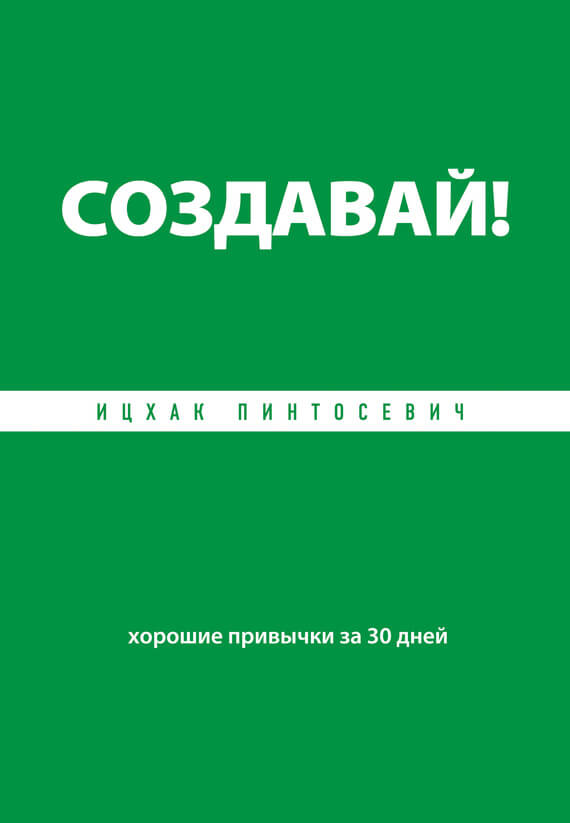 Все форматы
3.2 / 78
Создавай! Хорошие привычки за 30 дней
Автор: Ицхак Пинтосевич
Все форматы
3.2 / 78
Создавай! Хорошие привычки за 30 дней
Автор: Ицхак Пинтосевич


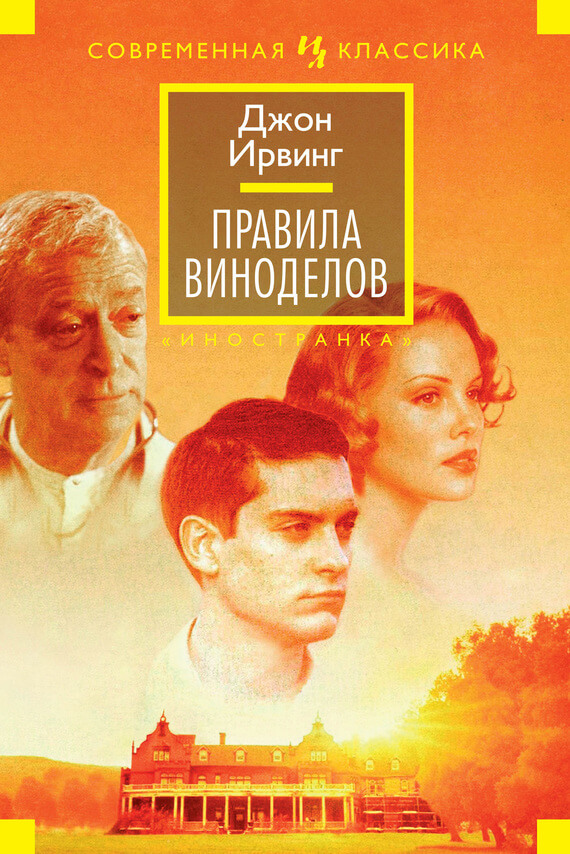

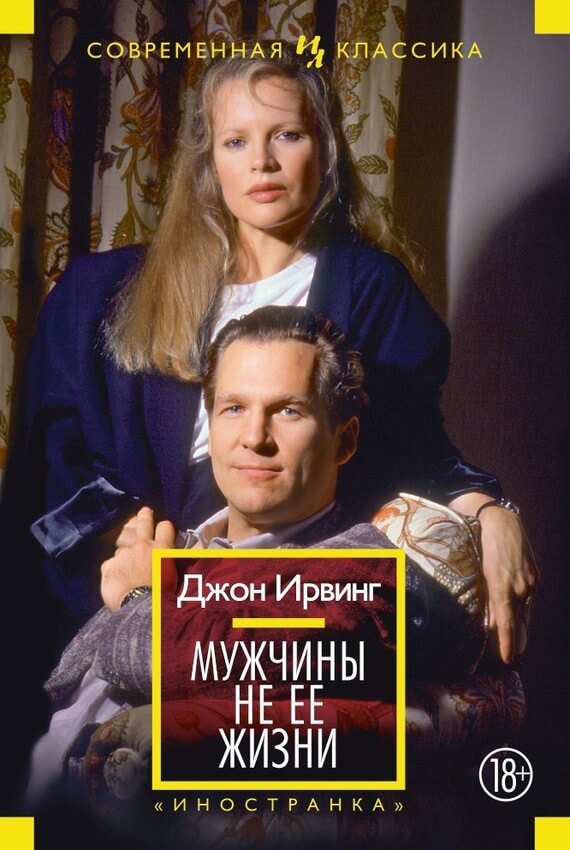

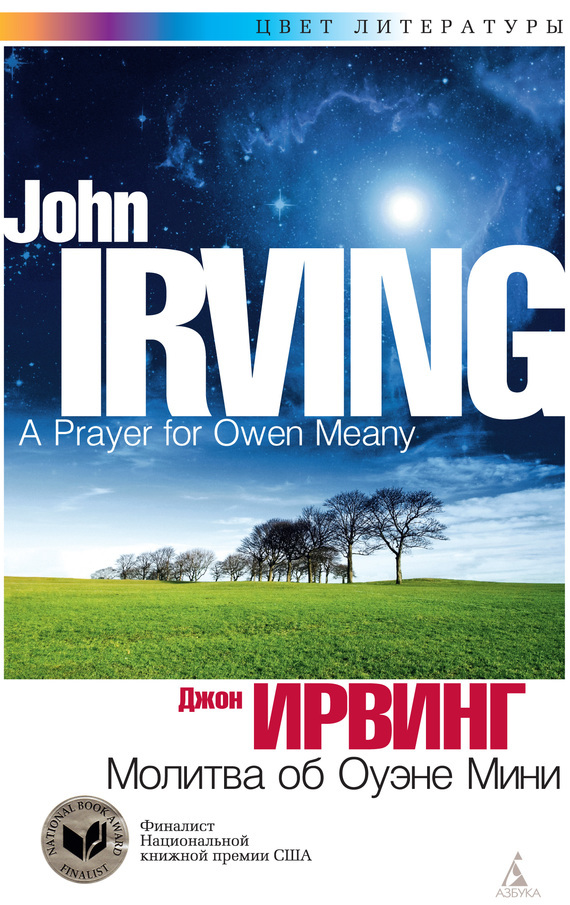

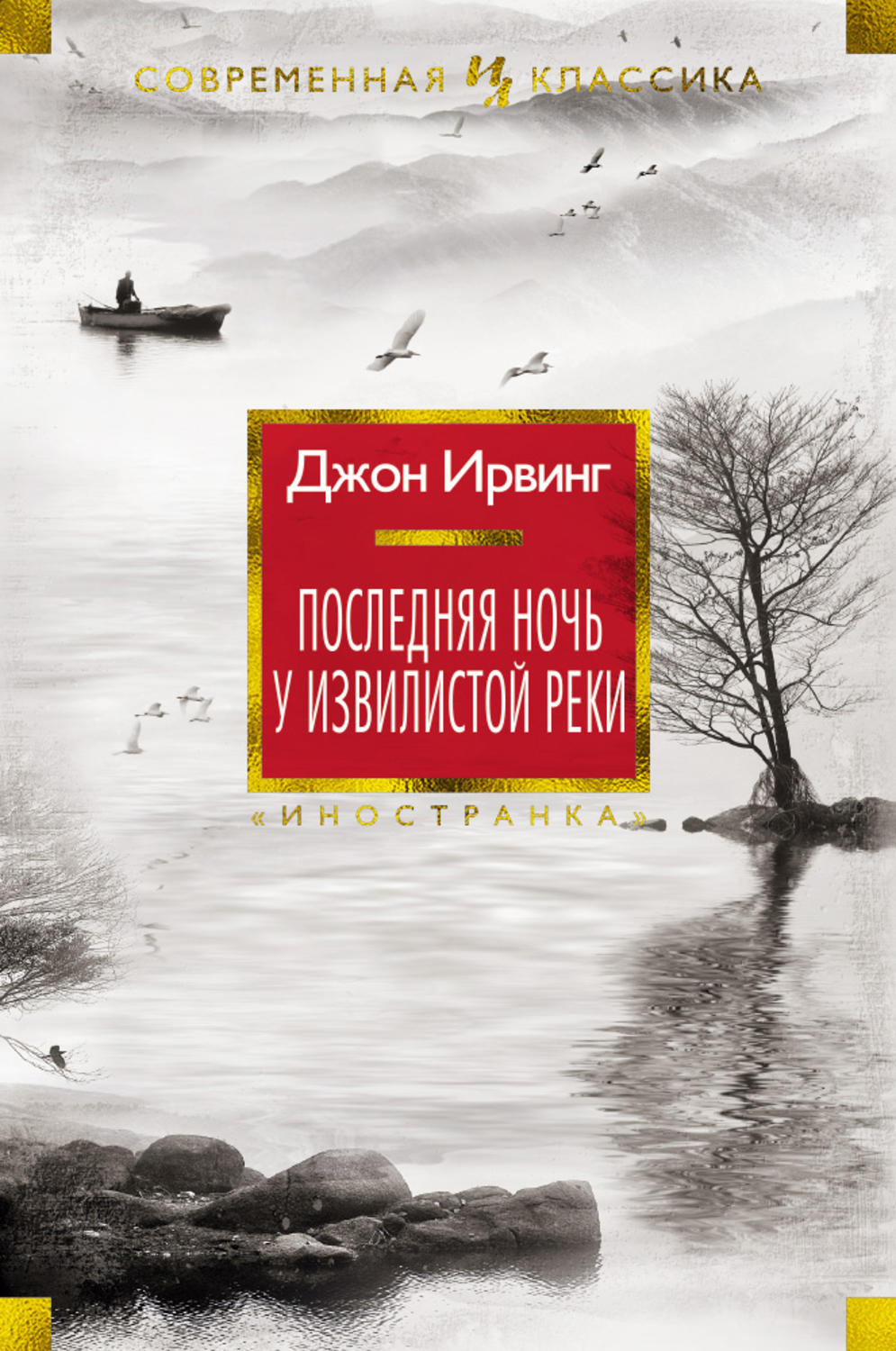




Комментарии и отзывы:
Комментарии и отзывы: