Читать онлайн “Голодные игры” «Сьюзен Коллинз»
- 01.02
- 0
- 0
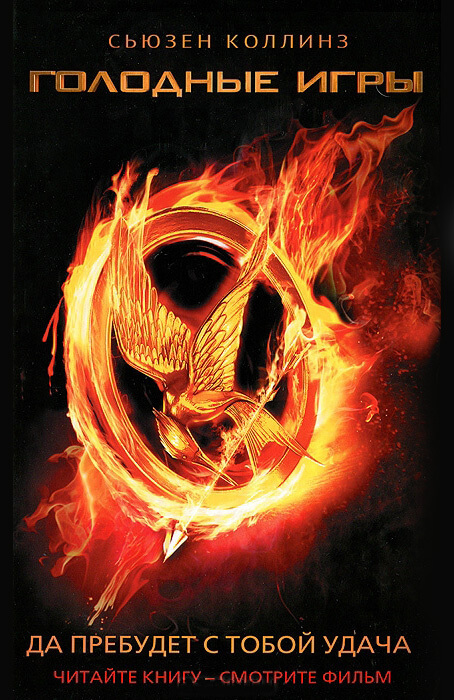
Страница 1
Голодные игрыСьюзен Коллинз
Голодные игры #1
Книга-сенсация, ставшая международным бестселлером и удостоенная множества литературных наград!
Эти парень и девушка знакомы с детства и еще могут полюбить друг друга, но им придется стать врагами… По жребию они должны участвовать в страшных Голодных играх, где выживает только один – сильнейший. Пока в жестоком квесте остаются хотя бы какие-то участники, Китнисс и Пит могут защищать друг друга и сражаться вместе. Но рано или поздно кому-то из них придется пожертвовать жизнью ради любимого… Таков закон Голодных игр. Закон, который не нарушался еще никогда!
Сьюзен Коллинз
Голодные игры
Дорогой читатель!
Многие спрашивают, как мне пришла в голову идея написать «Голодные игры», первый роман моей новой трилогии для юношеской аудитории. Наверное, их удивляет то, что эта книга так мало похожа на мои романы о Грегоре Надземном, предназначенные для младших школьников.
Трудно назвать какую-то одну причину. Наверное, первые семена были посеяны еще в детстве, когда в возрасте восьми лет я увлеклась мифологией и прочитала историю о Тесее. Миф рассказывает о том, как в наказание за прошлые провинности афиняне должны были в определенные годы посылать на Крит семь юношей и семь девушек. Там их бросали в Лабиринт, обрекая на съедение чудовищу Минотавру. Уже тогда, в третьем классе, я осознала безжалостный смысл этого требования: попробуйте тронуть нас, и мы не просто убьем вас, мы будем убивать ваших детей.
Также в детстве я смотрела очень много фильмов о гладиаторах: древние римляне умели превращать казни в массовые развлечения. На каникулах мы часто ездили с отцом, военным специалистом и историком, к местам известных сражений, а в старших классах я много путешествовала с фехтовальным обществом. Но непосредственным толчком послужил сравнительно недавний случай: сидя у телевизора и щелкая пультом, я вдруг перескочила с реалити-шоу на репортаж о реальных военных действиях. Тогда-то и родилась история Китнисс.
Возможно, потому, что книга написана от первого лица, Китнисс очень близка моему сердцу. Надеюсь, она найдет путь и к вашему.
С наилучшими пожеланиями,
Сьюзен Коллинз
Посвящается Джеймсу Проймосу
Часть I
Трибуты
1
Я просыпаюсь и чувствую, что рядом на кровати пусто. Пытаюсь нащупать тепло Прим, но под пальцами лишь шершавая обивка матраса. Должно быть, сестренке снились кошмары, и она перебралась к маме. Неудивительно – сегодня День Жатвы.
Приподнимаюсь на локте и вижу их в полумраке спальни: Прим, свернувшись калачиком, тесно прижалась к матери, щека к щеке. Во сне мама выглядит моложе – осунувшейся, но не измотанной. Лицо Прим свежо, как капля росы, и красиво, как цветок примулы, давшей ей имя. Мама тоже когда-то была красавицей. Так мне говорили.
У ног Прим устроился ее верный страж – самый уродливый кот в мире. Нос вдавлен, половина уха оторвана, глаза цвета гнилой тыквы. Прим назвала его Лютик – она почему-то уверена, что шерсть у него золотистая, а не грязно-бурая.
Кот меня ненавидит. По меньшей мере не доверяет. Уже несколько лет прошло, а помнит, наверное, как я хотела утопить его в ведре, когда сестра притащила его котенком в дом. Тощего, блохастого. От глистов чуть не лопался. Только такого нахлебника мне и не хватало! Но Прим так упрашивала, плакала… Пришлось оставить. Может, оно и к лучшему. Есть кому мышей ловить. Кот оказался прирожденным охотником. Бывает, даже с крысами справляется. Паразитов мама ему вывела.
Когда потрошу добычу, я иногда бросаю Лютику внутренности. А он перестал на меня ощетиниваться. Вот и всё. Похоже, наши взаимные симпатии этим и ограничатся.
Я спускаю ноги с кровати и обуваюсь. Мягкая кожа охотничьих ботинок приятно облегает ступни и голени. Надеваю брюки, рубашку, прячу длинную темную косу под шапку и хватаю рюкзак. На столе под перевернутой деревянной миской – чтобы крысы или какие-нибудь голодные коты не добрались – лежит кусочек козьего сыра, обернутый листьями базилика, подарок от Прим ко Дню Жатвы. Я бережно кладу его в карман и выскальзываю на улицу.
Мы живем в Дистрикте-12, в районе, прозванном Шлак. По утрам здесь обычно полно народу. Шахтеры торопятся на смену. Мужчины и женщины с согнутыми спинами, распухшими коленями. Многие уже давно оставили всякие попытки вычистить угольную пыль из-под обломанных ногтей и отмыть грязь, въевшуюся в морщины на изможденных лицах.
Сегодня черные, усыпанные шлаком улицы безлюдны. Окна приземистых серых домишек закрыты ставнями. Жатва начнется в два. Можно и поспать. Если получится.
Наш дом почти на окраине Шлака. Проходишь всего несколько ворот, и ты уже на Луговине – заброшенном пустыре. За Луговиной – высокий сетчатый забор с витками колючей проволоки поверху. Там заканчивается Дистрикт-12. Дальше – леса. Задумывалось, что все двадцать четыре часа в сутки забор будет под напряжением, чтобы отпугивать хищников: диких собак, кугуаров-одиночек, медведей. А то они ран
Страница 2
ше к самым домам подбирались. Только так уж нам везет, что электричество дают всего на два-три часа по вечерам, поэтому забора можно не опасаться. Все равно всегда останавливаюсь и слушаю – на всякий случай. Не гудит, значит, тока нет. Сейчас тихо. Я ложусь на землю и проползаю под забором – тут сетка уже два года как оборвана. И за кустами тебя не видно. Вообще, таких лазов несколько, но этот ближе всего к дому; зачем ходить дальше?Оказавшись в лесу, я достаю из дупла старого дерева припрятанные лук и колчан со стрелами. С электричеством или без, забор все-таки отпугивает хищников, в дистрикт они больше не суются. А в лесу им приволье. Тут уж держи ухо востро. Да еще всякая мелочь, больная бешенством, ядовитые змеи. И тропинок почти никаких нет. Зато можно добыть еду, если умеешь. Отец умел. Меня он тоже кое-чему успел научить, пока не случилась та авария в шахте и его не разорвало на кусочки. Даже хоронить оказалось нечего. Мне тогда было одиннадцать. Прошло пять лет, а я все еще просыпаюсь от собственного крика: «Беги!»
Вообще-то по лесам ходить запрещено, а охотиться тем более. Многих это не остановило бы, будь у них оружие, однако не всякий решится пойти на зверя с одним ножом. Мой лук – один из немногих в округе. Еще несколько я аккуратно упаковала в непромокаемую ткань и спрятала в лесу. Все их сделал отец. Он мог бы неплохо зарабатывать на изготовлении луков, но узнай об этом власти, его бы публично казнили за подстрекательство к мятежу.
На тех, кто все-таки охотится, миротворцы в основном смотрят сквозь пальцы. Тоже ведь свежего мяса хотят. По правде говоря, они – наши главные скупщики. Но снабжать Шлак оружием – такого, конечно, никто не допустит.
По осени некоторые сорвиголовы отваживаются пробираться в леса за яблоками. Далеко не заходят, Луговину из глаз не выпускают. Чуть что – сразу обратно, к родным крышам. «Дистрикт-12. Здесь вы можете подыхать от голода в полной безопасности», – бормочу я и тут же оглядываюсь. Даже здесь, в глуши, боишься, что тебя кто-нибудь услышит.
Когда я была поменьше, я ужасно пугала маму, высказывая все, что думаю о Дистрикте-12 и о людях, которые управляют жизнью всех нас из далекого Капитолия – столицы нашей страны Панем. Постепенно я поняла, что так нельзя: можно навлечь беду. Научилась держать язык за зубами и надевать маску безразличия, чтобы было непонятно, о чем я думаю. В школе стараюсь не высовываться. На рынке иногда поболтаю с кем-нибудь из вежливости, и то в основном о делах в Котле – это наш черный рынок, деньги у меня по большей части оттуда. Дома я, конечно, не такая пай-девочка, тем не менее ни о чем таком стараюсь не распространяться – о Жатве, например, о нехватке продуктов, о Голодных играх. Вдруг Прим станет повторять мои слова – и что тогда с нами будет?
В лесу меня ждет единственный человек, с кем я могу быть сама собой. Гейл. И сейчас, когда я карабкаюсь по холмам к нашему месту – скалистому уступу высоко над долиной, скрытому от чужих глаз густым кустарником, у меня будто груз сваливается с плеч, и шаги становятся быстрее. Я замечаю Гейла издали и невольно начинаю улыбаться. Гейл говорит, что улыбаюсь я только в лесу.
– Привет, Кискисс, – кричит он.
На самом деле мое имя Китнисс, но, когда мы знакомились, я его едва прошептала, и ему послышалось «Кискисс». А потом еще ко мне какая-то глупая рысь привязалась, думала, ей что-нибудь перепадет от моей добычи. Вот все и подхватили это прозвище. Рысь в конце концов пришлось убить – всю дичь распугивала. Даже жалко, с рысью как-то веселее было. Шкуру я продала, и неплохо.
– Гляди, что я подстрелил.
Гейл держит в руках буханку хлеба, из которой торчит стрела. Я смеюсь. Хлеб настоящий, из пекарни, совсем не похож на те плоские липкие буханки, что мы печем из пайкового зерна. Я беру хлеб, вытаскиваю стрелу и с наслаждением нюхаю. Рот сразу наполняется слюной. Такой хлеб бывает только по особым праздникам.
– М-м… еще теплый, – восхищаюсь я. Гейл, наверное, еще на рассвете сбегал в пекарню, чтобы его выторговать. – Сколько отдал?
– Всего одну белку. Старик сегодня что-то больно добрый. Даже удачи пожелал.
– В такой день мы все чувствуем близость друг друга, верно? – говорю я и даже не закатываю при этом глаза. – Прим оставила нам сыра. – Я достаю из кармана сверток.
Гейл радуется еще больше.
– Спасибо ей. Да у нас настоящий пир. – Он вдруг начинает говорить с капитолийским акцентом и пародировать Эффи Бряк – неукротимо бодрую даму, каждый год приезжающую объявить имена к очередной Жатве. – Чуть не забыла! Поздравляю с Голодными играми. – Гейл срывает несколько ягодин с окружающего нас ежевичника. – И пусть удача…
Он подбрасывает ягоду, и когда она, описав высокую дугу, летит в мою сторону, я ловлю ее ртом и, прокусив нежную кожицу, ощущаю терпкую сладость на языке.
– …всегда будет на вашей стороне! – заканчиваю я с тем же энтузиазмом.
Нам не остается ничего другого как шутить. Иначе можно сойти с ума от страха. К тому же капитолийский выговор такой ж
Страница 3
манный – что ни скажи, все смешно выходит.Я смотрю, как Гейл вытаскивает нож и нарезает хлеб. Гейл вполне мог бы сойти за моего брата. Прямые черные волосы, смуглая кожа, даже глаза как у меня – серые. Однако мы не родственники, во всяком случае не близкие. Большинство семейств, работающих на шахтах, похожи друг на друга. Потому-то моя мама и Прим со своими светлыми волосами и голубыми глазами всегда смотрелись здесь чужаками. Чужаки они и есть. Родители мамы принадлежали к маленькому клану аптекарей, обслуживающему чиновников, миротворцев и пару-тройку клиентов из Шлака, и жили в другом, более престижном районе Дистрикта-12. Доктора мало кому по карману, так что лечимся мы у аптекарей. Мой будущий отец собирал в лесах целебные травы и продавал в аптеку. Там они с мамой и познакомились. Мама, видно, здорово его любила, раз согласилась променять родной дом на Шлак. Я пытаюсь вспомнить что-то из их совместной жизни, а перед глазами лишь бледная женщина с непроницаемым лицом, которая сидит и смотрит, как ее дети превращаются в вяленую рыбу. Я пытаюсь простить ее ради отца. По правде говоря, я не из тех, кто легко прощает.
Гейл кладет на ломтики хлеба мягкий козий сыр и аккуратно покрывает листиком базилика; я тем временем обираю с кустов ягоды. Потом мы устраиваемся в укромном местечке между выступами скал, где нас никто не увидит, зато перед нами, как на ладони, долина, бурлящая летней жизнью, с тьмою всякой съедобной зелени и корений, и озеро с рыбой, переливающейся на солнце всеми цветами радуги. День прекрасный: голубое небо, ласковый ветерок. Еда тоже отличная: хлеб, пропитанный мягким сыром, ягоды, брызжущие соком во рту. Куда уж лучше. Одно плохо: не весь день нам с Гейлом бродить по горам, добывая ужин. В два часа нужно быть на площади и ждать, когда объявят имена.
– А мы ведь смогли бы, как думаешь? – тихо говорит Гейл.
– Что? – спрашиваю я.
– Уйти из дистрикта. Сбежать. Жить в лесу. Думаю, мы бы с тобой справились.
Я просто не знаю, что ответить, такой дикой мне кажется эта мысль.
– Если бы не дети, – поспешно добавляет Гейл.
Дети, конечно, не наши. Но все равно что наши. У Гейла два младших брата и сестра. У меня Прим. А еще матери. Как они обойдутся без нас? Кто их всех накормит? Ведь и сейчас, хоть мы с Гейлом и охотимся каждый день, а бывает, поменяешь добычу на топленое сало, на шерсть или шнурки для ботинок и ложишься спать голодным. Аж в животе урчит.
– Никогда не буду заводить детей, – говорю я.
– Я бы завел. Если бы жил не здесь, – отвечает Гейл.
– Если бы да кабы, – раздражаюсь я.
– Ладно, забыли, – огрызается он в ответ.
Разговор какой-то дурацкий получился. Уйти? Как я могу уйти и бросить Прим – единственного человека на земле, про которого я точно знаю, что люблю? И Гейл ведь тоже предан своей семье. Мы никак не можем уйти, так с какой стати затевать об этом разговор? А если бы и ушли… если бы ушли… С чего мы вдруг завели про своих детей? В наших отношениях с Гейлом никогда не было и тени романтики. Когда мы встретились, я была тощей двенадцатилетней девчонкой, а он, хотя всего на два года старше, уже выглядел мужчиной. Мы и друзьями-то не сразу стали. Долго еще спорили из-за каждого трофея, пока не стали помогать друг другу.
К тому же, если Гейл захочет детей, то жену ему найти – раз плюнуть. Красивый, сильный – в шахте может работать, и охотник замечательный. Когда по школе проходит, все девочки шушукаются. Я ревную, но вовсе не из-за того, о чем многие могут подумать. Хорошие напарники на дороге не валяются.
– Чем займемся? – спрашиваю я.
Можно охотиться, можно рыбачить или собирать ягоды.
– Давай к озеру. Удочки поставим, потом в лес. Наберем чего-нибудь вкусного на вечер.
На вечер… После Жатвы – официальный праздник. Многие действительно празднуют – рады, что их детей в этот раз не тронули. Но, по крайней мере, в двух домах ставни и двери будут плотно закрыты, а их обитатели будут думать, как пережить следующие несколько ужасных недель.
Все идет как по маслу. Хищников можно не бояться, у них сейчас полно добычи получше. Утро еще не закончилось, а у нас уже дюжина рыбин, целая сумка зелени и, что самое приятное, полведра земляники. Земляничник я нашла несколько лет назад, а Гейлу пришло в голову натянуть вокруг сетку, чтобы звери не вытоптали.
По пути домой мы заворачиваем в Котел, нелегальный рынок на заброшенном угольном складе. Когда придумали более удобный способ доставлять уголь из шахт прямо к поездам, здесь постепенно расцвела торговля. Хотя сегодня День Жатвы и большинство предприятий к этому времени уже закрыто, на рынке дела идут еще полным ходом. Мы легко обмениваем шесть рыбин на хороший хлеб, и еще две – на соль. Сальная Сэй, костлявая женщина, продающая горячий суп из большущего котла, забирает у нас половину зелени в обмен на пару брусков парафина. Кому-то другому можно было бы и повыгоднее толкнуть, только с Сальной Сэй надо поддерживать хорошие отношения. Кому еще всегда сбудешь дохлую дикую собаку? Специал
Страница 4
но мы на них не охотимся, но если они сами нападут, и прибьешь случайно пару-тройку, так не выбрасывать же – мясо есть мясо. «Попадут в суп, станут говядиной», – подмигивает Сэй. Оно, конечно, от хорошей собачьей ножки никто в Шлаке носа воротить не будет. Миротворцы – те поразборчивей, а они в Котел тоже частенько заглядывают.С рынка мы идем к дому мэра продать половину земляники – он очень ее любит и не торгуется. Дверь открывает Мадж – его дочь. Она учится со мной в одном классе. И совсем не зазнается из-за отца. Просто держится особняком, как и я. Ни у меня, ни у нее нет по-настоящему своей компании, поэтому мы часто оказываемся рядом. В столовой, на собраниях, в спортивных играх, когда нужен партнер. Разговариваем редко, и нас это устраивает.
Сегодня по случаю Жатвы на ней дорогущее белое платье вместо серого школьного, а светлые волосы стянуты розовой ленточкой.
– Классное платье, – говорит Гейл.
Мадж бросает на него взгляд, стараясь понять, на самом деле ему нравится или он только подсмеивается. Платье и вправду классное, но в обычный день Мадж никогда бы его не надела. Она сжимает губы, потом улыбается.
– Что ж, если придется ехать в Капитолий, то лучше быть красивой, так ведь?
Теперь очередь Гейла задуматься: в самом деле она так думает или просто играет? Я думаю, второе.
– Ты в Капитолий не поедешь, – холодно отвечает Гейл. Его взгляд останавливается на маленькой круглой броши, украшающей наряд Мадж. Настоящее золото, искусная работа. Целая семья могла бы несколько месяцев покупать на нее хлеб. – Сколько раз тебя впишут? Пять? Меня вписывали шесть раз, когда мне было двенадцать.
– Она не виновата, – говорю я.
– Не виновата. Да. И все равно это так.
Мадж насупилась. Она сует деньги за ягоды мне в руку.
– Удачи, Китнисс.
– Тебе тоже.
Дверь закрылась.
В Шлак мы возвращаемся молча. Мне не нравится, как Гейл уколол Мадж, но вообще-то он прав. Жатва происходит несправедливо, и хуже всего приходится беднякам. По правилам, в Жатве начинают участвовать с двенадцати лет. Первый раз твое имя вносится один раз, в тринадцать лет – уже два раза, и так далее, пока тебе не исполнится восемнадцать, когда твое имя пишут на семи карточках. Это касается всех без исключения граждан Панема во всех двенадцати дистриктах.
А вот тут начинается самое интересное. Допустим, ты бедняк и помираешь от голода. Тогда ты можешь попросить, чтобы тебя включили в Жатву большее число раз, чем полагается, а взамен получаешь тессеры. За тессер целый год дают зерно и масло на одного человека. Сыт, конечно, не будешь, но лучше, чем ничего. Можно взять тессеры и для всех членов семьи. Когда мне было двенадцать, меня вписали четырежды. Один раз по закону, и еще по разу за тессеры для Прим, мамы и меня самой. В следующие годы приходилось делать так же. А поскольку каждый год цена тессера увеличивается на одно вписывание, то теперь, когда мне исполнилось шестнадцать, мое имя будет на двадцати карточках. Гейлу восемнадцать, и он уже семь лет кормит семью из пяти человек. Его впишут сорок два раза! Понятно, что такие, как Мадж, которой никогда не приходилось рисковать из-за тессер, вызывают у Гейла раздражение. Рядом с нами, обитателями Шлака, у нее просто нет шансов попасть в Игры. Почти нет. Конечно, правила устанавливает Капитолий, а не дистрикты и тем более не родственники Мадж, и все равно трудно питать симпатии к тем, кому не приходится, как тебе, торговать собственной шкурой ради куска хлеба.
Гейл и сам понимает, что зря злится на Мадж. В другие дни, в лесах, он часто распространялся о том, что тессеры – это еще одно средство укоренить вражду между голодными рабочими Шлака и теми, кому не нужно каждый день думать о пропитании. «Капитолию выгодно, чтобы мы были разобщены», – говорил он не раз и скажет еще. Но не в День Жатвы. Не после тех в общем-то безобидных слов девушки, которая носит золотую брошь и прекрасно обходится без всяких тессер.
По пути я бросаю взгляд на Гейла, и вижу, что за каменным выражением лица все еще скрывается злость. По-моему, все эти припадки гнева совершенно бессмысленны, хотя Гейлу я так никогда не скажу. Дело не в том, что я с ним не согласна. Даже очень согласна. Только что толку кричать посреди леса, как плох Капитолий? Ничего ведь не изменится. Справедливости не станет больше. И сыт от крика не станешь. Наоборот, только дичь распугаешь. И все-таки я не возражаю. Пусть уж лучше выпустит пар в лесу, чем в дистрикте.
Мы с Гейлом делим остатки добычи: каждому достается по две рыбины, паре буханок хлеба, зелень, несколько стаканов земляники, соль, кусок парафина и чуть-чуть денег.
– Увидимся на площади, – говорю я.
– Ты уж принарядись, – хмуро отвечает Гейл.
Дома мама и сестра уже собрались. Мама надела красивое платье, оставшееся у нее с аптечных времен. На Прим – моя блузка с оборками и юбка, в которых я шла на свою первую Жатву.
Меня ждет лохань с горячей водой. Я смываю пот и грязь, налипшую в лесу, и даже мою волосы. Мама приготовила мне одно
Страница 5
из своих красивых платьев, голубое из мягкой тонкой материи.– Ты правда думаешь, мне стоит его надеть? – удивляюсь я.
Одно время я так злилась на маму, что вообще ничего не хотела от нее принимать. Теперь стараюсь не отказываться. Но этот случай особый. Для мамы всегда очень много значили вещи из ее прошлой жизни.
– Конечно. И давай сделаем тебе прическу.
Мама насухо вытирает мне волосы полотенцем, старательно расчесывает и укладывает. Когда я смотрюсь в наше треснутое зеркало у стены, то едва себя узнаю.
– Ты такая красивая! – тихо выдыхает Прим.
– Будто подменили, – говорю я и обнимаю ее.
Как трудно ей будет пережить следующие часы, свою первую Жатву. Она почти в безопасности, – если тут вообще кто-то в безопасности, – ее имя внесли только один раз, по возрасту; я бы ни за что не позволила ей взять тессеры. Но Прим боится за меня. Боится того, о чем даже думать не хочется.
Я всегда защищаю Прим как только могу, а здесь бессильна. Боль, которую чувствует сестра, передается и мне, и я боюсь, что она это заметит. Край ее блузки выбился наружу.
– Подбери хвост, утенок, – говорю я, изо всех сил стараясь, чтобы голос прозвучал спокойно, и заправляю блузку.
– Кря-кря, – крякает мне Прим и смеется.
– Кря-кря и тебе, – отвечаю я и тоже смеюсь – так, как могу смеяться только рядом с Прим. – Пошли обедать, – говорю я, целуя ее в макушку.
Рыба и зелень уже тушатся в печи на вечер. Землянику и настоящий хлеб тоже прибережем до ужина – пусть он будет особенный. А сейчас мы едим черствый хлеб из зерна, полученного на тессеры, и запиваем молоком от козы Леди – подопечной Прим. Аппетита, впрочем, все равно ни у кого нет.
В час мы направляемся к площади. Присутствовать должны все, разве что кто-то при смерти. Служаки вечером пройдут проверят, и если это не так – посадят в тюрьму.
Плохо, что Жатву проводят именно на площади – единственном приятном месте во всем Дистрикте-12. Площадь окружена магазинчиками, и в базарный день, да еще если погода хорошая, чувствуешь себя здесь как на празднике. Сегодня площадь выглядит зловеще – даром что флагов кругом навешали. И телевизионщики с камерами, рассевшиеся, как стервятники, на крышах, настроения не поднимают.
Люди молча гуськом подходят к чиновнику и записываются – так Капитолий заодно и население подсчитывает. Тех, кому от двенадцати до восемнадцати, расставляют группами по возрасту на огражденных веревками площадках – старших впереди, младших, как Прим, сзади. Родственники, крепко держась за руки, выстраиваются по периметру. Есть еще другие – те, кому сейчас не за кого волноваться, или кому уже наплевать – они ходят по толпе и принимают ставки на детей, чьи имена сегодня выпадут, – какого они будут возраста, из Шлака или из торговых, будут ли они убиваться и плакать. Большинство с подлецами не связываются, но и сурового отпора не дают – они частенько оказываются доносчиками, а кто ни разу не нарушал закон? Меня бы, к примеру, запросто могли расстрелять за охоту, если бы чинуши сами есть не хотели и не прикрывали. Не все могут на это рассчитывать. И вообще, мы с Гейлом решили, что чем с голоду подыхать, лучше уж пулю в лоб – быстрее и мучиться меньше.
Люди прибывают, становится тесно, даже дышать трудно. Площадь хоть и большая, но не настолько, чтобы вместить все восьмитысячное население Дистрикта-12. Опоздавших направляют на соседние улицы, где они смогут наблюдать за событиями на экранах: Жатва транслируется по всей стране в прямом эфире.
Я оказываюсь среди сверстников из Шлака. Мы коротко киваем друг другу и устремляем внимание на временную сцену перед Домом правосудия. На сцене – три стула, кафедра и два больших стеклянных шара – для мальчиков и для девочек. Я не отрываясь смотрю на полоски бумаги в девичьем шаре. На двадцати из них аккуратным почерком выведено: «Китнисс Эвердин».
Два из трех стульев занимают мэр Андерси, высокий лысеющий господин, и приехавшая из Капитолия Эффи Бряк, женщина-сопроводитель, ответственная за наш дистрикт, – с розовыми волосами, в светло-зеленом костюме и с жуткой белозубой улыбкой на лице. Они о чем-то переговариваются, озабоченно поглядывая на пустующий стул.
Как только часы на ратуше пробьют два, мэр выходит к кафедре и начинает свою речь. Ту же, что всегда. Рассказывает историю Панема – страны, возникшей из пепла на том месте, которое когда-то называли Северной Америкой. Перечисляет катастрофы – засухи, ураганы, пожары, моря, вышедшие из берегов и поглотившие так много земли, жестокие войны за жалкие остатки ресурсов. Итогом стал Панем – сияющий Капитолий, окаймленный тринадцатью дистриктами, принесший мир и благоденствие своим гражданам. Потом настали Темные Времена, мятеж дистриктов против Капитолия. Двенадцать были побеждены, тринадцатый – стерт с лица земли. С вероломными дистриктами был заключен договор, снова гарантировавший мир и давший нам Голодные игры в качестве напоминания и предостережения, дабы никогда впредь не наступали Темные Времена.
Правила просты. В наказание за
Страница 6
мятеж каждый из двенадцати дистриктов обязан раз в год предоставлять для участия в Играх одну девушку и одного юношу – трибутов. Двадцать четыре трибута со всех дистриктов помещают на огромную открытую арену: там может быть все что угодно – от раскаленных песков до ледяных просторов. Там в течение нескольких недель они должны сражаться друг с другом не на жизнь, а на смерть. Последний оставшийся в живых выигрывает.Забирая детей и вынуждая их убивать друг друга у всех на глазах, Капитолий показывает, насколько велика его власть над нами, как мало у нас шансов выжить, вздумай мы взбунтоваться снова. Какие бы слова ни звучали из Капитолия, слышится в них одно: «Мы забираем у вас ваших детей, мы приносим их в жертву, и вы ничего не можете поделать с этим. Пошевелите только пальцем, и мы уничтожим вас всех. Как в Дистрикте-13».
Капитолию мало нас мучить, ему надо нас унизить, потому Голодные игры объявлены праздником, спортивным соревнованием, в котором дистрикты выступают соперниками. Выжившему трибуту обеспечивают безбедное существование в родном дистрикте, а сам дистрикт усыпают наградами – по большей части в виде продовольствия. Весь год Капитолий демонстрирует свою щедрость – выделяет победившему дистрикту зерно, масло, даже лакомства вроде сахара, в то время как остальные пухнут от голода.
– Это время раскаяния и время радости, – нараспев возглашает мэр.
Потом он вспоминает прошлых победителей из нашего дистрикта. За семьдесят четыре года их было всего двое. Один жив до сих пор. Хеймитч Эбернети, немолодой мужчина с брюшком, который как раз выходит на сцену. Пошатываясь и горланя что-то невразумительное, он грузно падает на третий стул. Успел нализаться. Толпа приветствует его жидкими аплодисментами, а он вовсю старается облапить Эффи Бряк, так что той едва удается вывернуться.
Мэр явно огорчен. Церемонию показывают по телевидению, и все кому не лень теперь над нами смеются. Пытаясь вернуть внимание к Жатве, он поспешно представляет Эффи Бряк. Как всегда бодрая и неунывающая, она выходит к кафедре и провозглашает свое фирменное: «Поздравляю с Голодными играми! И пусть удача всегда будет на вашей стороне!»
Ее розовые волосы – скорее всего, парик: после встречи с Хеймитчем локоны слегка сдвинулись набок. Покончив с приветствием, Эффи говорит, какая для нее честь присутствовать среди нас, хотя каждый понимает, что она ждет не дождется, когда ее переведут в более престижный дистрикт, где победители как победители, а не пьяницы, лапающие тебя перед всей нацией.
Сквозь толпу я вижу Гейла. Он тоже смотрит на меня и слегка улыбается: в кои веки на Жатве случилось что-то забавное… Тут меня пронзает мысль: в том шаре целых сорок два листочка с именем Гейла; удача не на его стороне. У других расклад куда как лучше. То же самое, наверное, Гейл подумал и обо мне, он мрачнеет и отворачивается. «Листков ведь несколько тысяч!» – шепчу я, как будто он может услышать.
Пора тащить жребий. Как обычно, Эффи взвизгивает: «Сначала дамы!» и семенит к девичьему шару. Глубоко опускает руку внутрь и вытаскивает листок. Толпа разом замирает. Пролети муха, ее бы услышали. От страха даже живот сводит, а в голове одна мысль крутится, как заведенная: только бы не я, только бы не меня!
Эффи возвращается к кафедре и, расправив листок, ясным голосом произносит имя. Это и вправду не я.
Это – Примроуз Эвердин.
2
Как-то раз в лесу, поджидая добычу на дереве, я задремала и грохнулась вниз с десятифутовой высоты прямо на спину – да так, что, казалось, весь дух из меня вышел. Я несколько секунд ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни даже пошевелиться не могла.
И вот теперь я испытываю то же самое: горло перехватило, и я не в силах издать ни звука, а имя сестры все стучит и стучит молотом в голове. Кто-то хватает меня за руку, какой-то мальчик из Шлака. Наверное, я стала падать, и он меня поддержал.
Это ошибка! Этого не может быть! Имя Прим – на одном листке из тысяч! Я даже за нее не волновалась. Разве я не обо всем позаботилась? Разве не я взяла эти чертовы тессеры, чтобы ей не пришлось рисковать? Один листок. Один листок из тысяч. Расклад – лучше не бывает. И все, все насмарку.
Как будто издалека до меня доносится ропот толпы – самая большая несправедливость, когда выпадает кто-то из младших. Потом я вижу Прим: бледная, с плотно сжатыми кулачками, она медленно, на негнущихся ногах бредет к сцене. Проходит мимо меня, и я замечаю, что ее блузка опять торчит сзади как утиный хвостик; и это приводит меня в чувство.
– Прим! – кричу я сдавленным голосом и наконец обретаю способность двигаться. – Прим!
Мне не нужно проталкиваться сквозь толпу, она сама расступается передо мной, образуя живой коридор к сцене. Я догоняю Прим у самых ступеней и отталкиваю назад.
– Есть доброволец! – выпаливаю я. – Я хочу участвовать в Играх.
На сцене легкое замешательство. В Дистрикте-12 добровольцев не бывало уже несколько десятков лет, и все забыли, какова должна быть процедура в таких случаях. По правилам, после
Страница 7
того как объявлено имя трибута, другой юноша или другая девушка (смотря по тому, из какого шара был взят листок) может выразить желание занять его место. В некоторых дистриктах, где победа в Играх считается большой честью и многие готовы рискнуть ради нее жизнью, стать добровольцем не так просто. Но поскольку у нас слово «трибут» значит почти то же, что «труп», добровольцы давным-давно перевелись.– Чудесно! – восхищается Эффи Бряк. – Но… мне кажется, вначале полагается представить победителя Жатвы и… только потом спрашивать, не найдется ли добровольца. И если кто-то изъявит желание, то мы, конечно… – все более неуверенно продолжает она.
– Да какая разница? – вмешивается мэр.
Он смотрит на меня с состраданием и, хотя мы никогда не общались, как будто даже узнает меня – девочку, которая приносит ягоды; о которой ему, возможно, что-то рассказывала дочь; и которой, как старшему ребенку в семье, он сам пять лет назад вручал медаль «За мужество». Медаль за отца, сгинувшего в рудниках. Может быть, мэр вспомнил, как я стояла тогда перед ним, робко прижавшись к матери и сестренке?
– Какая разница? – ворчливо повторяет мэр. – Пусть идет.
Сзади, вцепившись в меня, как клещами, своими тонкими ручонками, исступленно кричит Прим:
– Нет, Китнисс! Нет! Не ходи!
– Прим, пусти! – грубо приказываю я, потому что сама боюсь не выдержать и расплакаться. Когда вечером Жатву будут повторять по телевизору, все увидят мои слезы и решат, что я легкая мишень, слабачка. Нет уж, дудки! Никому не хочу доставлять такого удовольствия. – Пусти!
Кто-то оттаскивает от меня Прим, я оборачиваюсь и вижу, как она брыкается на руках у Гейла.
– Давай, Кискисс, иди, – говорит он напряженным от волнения голосом и уносит Прим к маме.
Я стискиваю зубы и поднимаюсь на сцену.
– Браво! Вот он, дух Игр! – ликует Эффи, довольная, что и в ее дистрикте случилось наконец что-то достойное. – Как тебя зовут?
Я с трудом сглатываю комок в горле и произношу:
– Китнисс Эвердин.
– Держу пари, это твоя сестра. Не дадим ей увести славу у тебя из-под носа, верно? Давайте все вместе поприветствуем нового трибута! – заливается Эффи.
К великой чести жителей Дистрикта-12, ни один из них не зааплодировал. Даже те, кто принимал ставки, кому давно на всех наплевать. Многие, наверное, знают меня по рынку, или знали моего отца, а кто-то встречал Прим и не мог не проникнуться к ней симпатией. Я стою ни жива ни мертва, пока многотысячная толпа застывает в единственно доступном нам акте своеволия – молчании. Молчании, которое лучше всяких слов говорит: мы не согласны, мы не на вашей стороне, это несправедливо.
Дальше происходит невероятное – то, чего я и представить себе не могла, зная, как я совершенно безразлична дистрикту. С той самой минуты, когда я встала на место Прим, что-то изменилось – я обрела ценность. И вот сначала один, потом другой, а потом почти все подносят к губам три средних пальца левой руки и протягивают ее в мою сторону. Этот древний жест существует только в нашем дистрикте и используется очень редко; иногда его можно увидеть на похоронах. Он означает признательность и восхищение, им прощаются с тем, кого любят.
Теперь у меня действительно наворачиваются слезы. К счастью, Хеймитч встает со стула и шатаясь ковыляет через сцену, чтобы меня поздравить.
– Посмотрите на нее. Посмотрите на эту девочку! – орет он, обнимая меня за плечи. От него несет спиртным, и он явно давно не мылся. – Вот это я понимаю! Она… молодчина! – провозглашает он торжественно. – Не то что вы! – Он отпускает меня, подходит к краю сцены и тычет пальцем прямо в камеру. – Вы – трусы!
Кого он имеет в виду? Толпу? Или настолько пьян, что бросает вызов Капитолию? Впрочем, об этом уже никто не узнает: не успевая в очередной раз открыть рот, Хеймитч валится со сцены и теряет сознание.
Хоть он и отвратителен, я ему благодарна. Пока все камеры жадно нацелены на него, у меня есть время перевести дух и взять себя в руки. Я расправляю плечи и смотрю вдаль на холмы, где мы бродили сегодня утром с Гейлом. На мгновение меня охватывает тоска… почему мы не убежали из дистрикта? Не стали жить в лесах? Но я знаю, что поступила правильно. Кто бы тогда встал на место Прим?
Хеймитча поскорее уносят на носилках, и Эффи Бряк снова берет инициативу в свои руки.
– Какой волнующий день! – щебечет она, поправляя парик, опасно накренившийся вправо. – Но праздник еще не окончен! Пришло время узнать имя юноши-трибута! – По-прежнему пытаясь одной рукой выровнять парик, она бодро шагает к шару и вытаскивает первый попавшийся листок. Я даже не успеваю пожелать, чтобы это был не Гейл, как она произносит: – Пит Мелларк!
«О нет! Только не он!» – проносится у меня в голове, я знаю этого парня, хотя ни разу и словом с ним не перемолвилась.
Удача сегодня не на моей стороне.
Я смотрю на него, пока он пробирается к сцене. Невысокий, коренастый, пепельные волосы волнами спадают на лоб. Пит старается держаться, но в его голубых глазах ужас. Тот же ужас, что я т
Страница 8
к часто видела на охоте в глазах жертвы. Тем не менее Питу удается твердым шагом подняться по ступеням и занять свое место на сцене.Эффи Бряк спрашивает, нет ли добровольцев. Никто не выходит. У Пита два брата, я видела их в пекарне. Одному, наверное, уже больше восемнадцати, а другой не захочет. Обычное дело. В День Жатвы семейные привязанности не в счет. Поэтому все так потрясены моим поступком.
Мэр длинно и нудно зачитывает «Договор с повинными в мятеже дистриктами», как того требуют правила церемонии, но я не слышу ни слова.
«Почему именно он?» – думаю я. Потом пытаюсь убедить себя, что это не имеет значения. Мы с Питом не друзья, даже не соседи. Мы никогда не разговаривали друг с другом. Нас ничего не связывает… кроме одного случая несколько лет назад. Возможно, сам Пит о нем уже и не помнит. Зато помню я. И знаю, что никогда не забуду.
То было самое тяжелое время для нашей семьи. Тремя месяцами раньше, в январе, суровее которого, по словам старожилов, в наших местах еще не бывало, мой отец погиб в шахте. Поначалу я почти ничего не чувствовала – словно окаменела, а потом пришла боль. Она накатывала внезапно из ниоткуда, заставляя корчиться и рыдать. «Где ты? – кричала я мысленно. – Почему ты ушел?» Ответить было некому.
Дистрикт выделил нам небольшую компенсацию, достаточную, чтобы прожить месяц, пока мама найдет работу. Только она не искала. Целыми днями сидела, как кукла, на стуле или лежала скрючившись на кровати и смотрела куда-то невидящим взглядом. Иногда вставала, вдруг встрепенувшись, будто вспомнив о каком-то деле, но тут же снова впадала в оцепенение и не обращала никакого внимания на мольбы Прим.
Мне было страшно, очень страшно. Теперь я могу представить, в каком мрачном царстве тоски пришлось побывать маме, но тогда я понимала лишь одно: вместе с отцом я потеряла и ее. Прим всего семь лет, мне – одиннадцать, и я стала главой семьи. Что мне оставалось делать? Я покупала на рынке продукты, варила еду, как умела, и старалась прилично одеваться сама и одевать сестру – ведь если бы стало известно, что мама о нас не заботится, мы бы оказались в муниципальном приюте. В нашу школу ходили дети из приюта – понурые, с синяками на лицах, с согбенными от безысходности спинами. Я не могла допустить, чтобы Прим стала такой же. Добрая маленькая Прим, которая плакала, когда плакала я, еще даже не зная причины, расчесывала и заплетала мамины волосы перед школой, и каждый вечер по-прежнему вытирала отцово зеркало для бритья – он терпеть не мог угольную пыль, покрывавшую все в Шлаке. Прим не выдержала бы приюта. А потому я никому словом не обмолвилась о том, как нам трудно.
Наконец деньги закончились, и мы стали умирать от голода. По-другому не скажешь. И продержаться-то нужно было всего лишь до мая, только до восьмого числа, а там мне бы исполнилось двенадцать, я бы взяла тессеры и получила на них драгоценные зерно и масло. Но до мая оставалось еще несколько недель, а к тому времени мы могли умереть.
В Дистрикте-12 голодная смерть не редкость. За примерами далеко ходить не надо: старики, не способные больше работать, дети из семей, где слишком много ртов, рабочие, искалеченные в шахтах. Бродил вчера человек по улицам, а сегодня, смотришь, лежит где-нибудь, привалившись к забору, и не шевелится. Или на Луговине наткнешься. А другой раз только плач из домов слышишь. Приедут миротворцы, заберут тело. Власти не признают, что это из-за голода. Официально причина всегда – грипп, переохлаждение или воспаление легких.
В тот день, когда судьба свела меня с Питом Мелларком, я была в городе. Пыталась продать что-нибудь из старых вещичек Прим на публичном рынке. Раньше я несколько раз бывала с отцом в Котле, но одна ходить туда боялась – место очень уж суровое. Ледяной дождь лил непрерывным потоком. Отцова охотничья куртка промокла насквозь, и холод пробирал до костей. Последние три дня у нас во рту не было ничего, кроме кипяченой воды с несколькими листиками мяты, завалявшимися в буфете. Простояв до самого закрытия рынка, я ничего не продала и дрожала так сильно, что уронила связку с детскими вещами в лужу. Подбирать не стала, побоялась, что сама упаду следом и тогда уже точно не встану. Да и кому нужны эти тряпки?
Домой нельзя. Невыносимо смотреть в потухшие глаза матери, видеть впалые щеки и потрескавшиеся губы сестры. В комнатке полно дыма: с тех пор как закончился уголь, топить приходилось сырыми ветками, которые я подбирала на краю леса. Как я могла вернуться туда с пустыми руками и без всякой надежды?
Не помню, как ноги привели меня на грязную улочку, тянувшуюся позади лавок и магазинов для богачей. Но сами-то заведения на первом этаже, а на втором живут их хозяева. Так что оказалась я у них на задворках. Возле домов пустые грядки, время посадки еще не пришло. Пара коз в сарае. Мокрая собака на цепи, обреченно сгорбившаяся посреди грязной лужи.
Любое воровство в Дистрикте-12 карают смертью, а в ящиках с мусором можно рыться безнаказанно. Вдруг что-нибудь отыщется? Кость из мясн
Страница 9
й лавки или гнилые овощи от зеленщика. То, чего не станет есть никто, кроме моей семьи. Как назло, мусор недавно вывезли.Когда я проходила мимо пекарни, от запаха свежего хлеба у меня закружилась голова. Где-то в глубине пылали печи, и через отрытую дверь лил золотой жар. Я стояла, не в силах двинуться с места, прикованная теплом и дивным ароматом, пока дождь не охватил ледяными пальцами всю спину и не пробудил меня от очарования. Я подняла крышку мусорного ящика перед пекарней, и он тоже оказался безукоризненно, безжалостно пуст.
Вдруг я услыхала крик и подняла глаза. Жена пекаря кричала, чтобы я шла своей дорогой, а то она позовет миротворцев, и как ей надоело все это отродье из Шлака, постоянно роющееся в ее мусоре. У меня не было сил ответить на ее брань. Я осторожно опустила крышку, попятилась и тут заметила светловолосого мальчика, выглядывавшего из-за материнской спины. Я его встречала в школе. Он мой ровесник, но как его зовут, я не знала. У городских детей своя компания. Потом женщина, все еще ворча, возвратилась в пекарню, а мальчик, должно быть, наблюдал, как я зашла за свинарник и прислонилась к старой яблоне. Последняя надежда принести домой что-нибудь съестное пропала. Колени у меня подогнулись, и я безвольно соскользнула на землю. Вот и все. Я слишком больна, слишком слаба и слишком устала – о, как же я устала. Пусть приедут миротворцы, пусть заберут нас в приют. А лучше пусть я сдохну прямо здесь под дождем.
До меня донесся шум: опять ругалась жена пекаря, потом раздался удар. Вот разбушевалась. Хлюпая по грязи, ко мне кто-то шел. Это она. Хочет прогнать меня палкой, успела подумать я. Но нет, это был мальчик. В руках он держал две большие буханки хлеба с дочерна подгоревшей коркой – наверное, они упали в огонь.
– Брось их свинье, олух безмозглый! Какой дурак купит горелый хлеб?! – кричала ему вслед мать.
Он стал отрывать от буханок подгоревшие куски и бросать в корыто. Тут в пекарне зазвенел колокольчик, и мать поспешила к покупателю.
Мальчик даже ни разу не взглянул на меня, зато я смотрела на него не отрываясь. Потому что у него был хлеб. А еще из-за алого пятна на скуле. Чем она его так ударила? Мои родители нас никогда не били. Я и представить себе такого не могла.
Он воровато оглянулся – не смотрит ли кто, снова повернулся к свинарнику, и быстро бросил одну, потом другую буханку в мою сторону. И как ни в чем не бывало пошлепал назад к пекарне.
Я глядела на буханки и не верила своим глазам. Они были совсем хорошие, кроме подгорелых мест. Неужели это мне? Должно быть. Буханки валялись у самых моих ног. Испугавшись, что кто-то мог видеть, как все произошло, я поскорее сунула их под рубашку, запахнула сверху охотничью куртку и быстро пошла прочь. Горячий хлеб обжигал кожу, а я только сильнее прижимала его к себе – в нем была жизнь.
Пока я дошла до дома, буханки подостыли, но внутри были еще теплыми. Я вывалила их на стол, и Прим сразу хотела отломить кусок. Я сказала ей немного подождать, уговорила маму сесть с нами за стол и налила всем горячего чаю. Соскребла с хлеба черноту и нарезала. Это был настоящий, вкусный хлеб с изюмом и орехами. Мы съели целую буханку, ломоть за ломтем.
Оставив одежду сушиться у печки, я забралась в кровать и тут же провалилась в глубокий сон. Только утром мне пришло в голову, что мальчик мог нарочно подпалить буханки. Сбросил в огонь, зная, что накажут, а потом сумел передать мне. Хотя с чего это я взяла? Видно, все-таки случайно. Зачем ему помогать совсем чужой девчонке? Даже просто бросив хлеб, он проявил невероятное великодушие; узнай об этом мать, ему бы здорово досталось. Я не могла его понять.
На завтрак мы с сестрой опять поели хлеба и отправились в школу. За ночь, казалось, пришла весна: воздух чист и свеж, легкие пушистые облака в небе. В вестибюле школы я встретила того мальчика. Щека у него опухла, под глазом проступил синяк. Мальчик разговаривал с друзьями и ничем не показал, что знает меня. Но когда мы с Прим шли домой после занятий, я заметила, как он смотрит на нас с другой стороны школьного двора. На секунду наши глаза встретились; он тут же отвернулся, а я, смутившись, опустила взгляд на землю. А там, надо же – одуванчик, первый одуванчик в этом году. Сердце у меня учащенно забилось. Я вспомнила отца, как мы вместе охотились в горах, и внезапно поняла, что нужно делать, чтобы выжить.
До сих пор не могу отделаться от странной мысли, будто этот спасительный одуванчик оказался там не случайно, а как-то связан с Питом Мелларком и его хлебом, подарившим мне надежду. Потом еще не раз я ощущала на себе взгляд Пита, но он мгновенно отводил его, стоило мне обернуться. У меня такое чувство, будто я осталась ему что-то должна, а я не люблю ходить в должниках. Возможно, мне было бы легче, если бы я хоть поблагодарила его. Я и правда хотела, просто случая не подвернулось. Теперь поздно. Нас бросят на арену, и нам придется сражаться насмерть. Хороша я там буду со своим «спасибо»! Боюсь, слишком уж натянуто оно звучит, ког
Страница 10
а одновременно пытаешься перерезать благодетелю глотку.Мэр наконец заканчивает читать нестерпимо скучный договор и жестом велит нам с Питом пожать друг другу руки. Ладони Пита плотные и теплые, как тот хлеб. Он глядит мне прямо в глаза и ободряюще сжимает мою ладонь. А может, это просто нервный спазм?
Играет гимн, и мы стоим повернувшись к толпе.
«Что ж, – думаю я. – В конце концов, нас двадцать четыре. Есть шанс, что кто-то убьет его раньше меня».
Хотя в последнее время ни на что нельзя слишком полагаться.
3
Как только заканчивается гимн, нас берут под охрану. Нет, нам не надевают наручники – ничего такого. Просто пока мы идем к Дому правосудия, рядом неотступно следует группа миротворцев. Возможно, раньше трибуты пытались бежать. При мне такого не случалось.
Меня отводят в комнату и оставляют одну. Никогда не встречала такой роскоши: ноги утопают в мягких коврах, диван и кресла обиты бархатом. Я знаю, что это бархат, у мамы есть платье с воротником из такой ткани. Когда я сажусь на диван, то не могу удержаться, чтобы не погладить его. Мягкий ворс действует успокаивающе. Спокойствие, ох как оно мне понадобится в следующий час – время, отведенное на прощание с близкими. Нельзя позволить себе раскиснуть, нельзя выйти отсюда с опухшими глазами и натертым носом. Плачем делу не поможешь. А на вокзале повсюду будут камеры.
Первыми приходят сестра и мама. Я протягиваю руки к Прим, она забирается ко мне на колени, обхватывает за шею и кладет голову мне на плечо, совсем как маленькая. Мама сидит рядом и обнимает нас обеих. Несколько минут мы не в силах говорить. Потом, опомнившись, я тороплюсь высказать свои наставления о том, что им теперь делать.
Прим не придется брать тессеры. Они справятся без этого, если поведут дело с умом. Можно продавать козье молоко и сыр, а мама будет делать лекарства для людей из Шлака. Гейл обещал приносить травы, которые она не выращивает сама, надо только поточнее объяснять, какие именно, – Гейл ведь не так хорошо в этом разбирается, как я. Дичью он тоже обеспечит – у нас с ним договор с прошлого года. Даже не возьмет платы, но все ж лучше его чем-нибудь благодарить – молоком или лекарствами.
Я не предлагаю Прим охотиться. Пару раз я пыталась ее научить, все без толку. В лесу она пугалась, а стоило подстрелить какого-нибудь зверька, так и вовсе пускалась в слезы и просила, чтобы ей дали его вылечить. Зато за козой она здорово ухаживает. Пусть этим и занимается.
Рассказываю, где добывать дрова и уголь для печки, как торговать, чтобы не обманули, прошу Прим не бросать школу. Затем беру маму за руку и твердо смотрю ей в глаза.
– Послушай. Послушай меня внимательно!
Мама кивает, встревоженная моей настойчивостью. Она догадывается, о чем пойдет речь.
– Ты не должна уйти снова, – говорю я.
Мама опускает взгляд.
– Я знаю. Я не уйду. В тот раз я не справилась…
– Теперь ты обязана справиться. Ты не можешь замкнуться в себе и бросить Прим совсем одну. Я уже не смогу вам помочь. Что бы ни случилось, что бы ни показывали на экране, обещай мне, что ты будешь бороться!
Мой голос срывается на крик. В нем – вся злость и все отчаяние, которые я чувствовала, пока мама находилась в плену своего безволия.
Она рассерженно высвобождает руку из моих тесно сжатых пальцев.
– Я была больна. Я смогла бы себя вылечить, будь у меня лекарства, какие есть теперь.
Возможно, мама права. Я уже не раз видела, как она возвращала к жизни людей, раздавленных горем. Наверное, это болезнь, но мы не можем себе позволить так болеть.
– Тогда позаботься, чтобы они у тебя были. И заботься о ней!
– За меня не волнуйся, Китнисс, – говорит Прим, охватывая ладонями мое лицо. – Главное, ты береги себя. Ты быстрая и смелая. Может быть, ты сумеешь победить.
Нет, я не сумею. Прим в душе это понимает. Это состязание мне не по силам. Дети из более богатых дистриктов, где победа в Играх считается огромной честью, тренируются всю жизнь. Парни в три раза крупнее меня, а девушки знают двадцать способов ударить ножом. Да, такие, как я, там, конечно, будут. Для разминки, пока не начнется настоящее веселье.
– Может быть, – соглашаюсь я. Какое у меня право требовать стойкости от мамы, если на саму себя я махнула рукой? Да и не в моем характере сдаваться без боя, даже когда нет надежды на победу. – Вот выиграю, и станем богачами, как Хеймитч.
– Мне все равно, будем мы богачами или нет. Я хочу, чтобы ты вернулась. Ты ведь постараешься? Постарайся, пожалуйста, очень-очень! – умоляет Прим.
– Я очень-очень постараюсь. Клянусь.
И я знаю, что должна сдержать эту клятву. Ради Прим.
В дверях появляется миротворец – время вышло. Мы до боли стискиваем друг друга в объятиях, а я все повторяю: «Я люблю вас. Я люблю вас обеих». В конце концов миротворец выдворяет их за дверь. Я утыкаюсь лицом в бархатную подушку, как будто могу укрыться в ней от всего мира.
Входит кто-то еще. Я поднимаю глаза и с удивлением вижу пекаря, отца Пита Мелларка. Даже не верится, что он
Страница 11
пришел ко мне, ведь совсем скоро я, возможно, буду пытаться убить его сына. С другой стороны, мы с ним знакомы, а Прим он вообще хорошо знает. Когда она продает козий сыр в Котле, всегда приберегает для него пару кусков, а пекарь, не скупясь, рассчитывается хлебом. Мы всегда предпочитаем сторговаться с ним, пока его жены-ведьмы нет рядом. Сам он неплохой человек. Я уверена, он ни за что не ударил бы сына за подгоревший хлеб. И все-таки зачем он пришел?Пекарь смущенно присаживается на край плюшевого кресла. Большой, широкоплечий мужчина с лицом, опаленным от долгих лет работы у печи. Видно, только что попрощался с сыном.
Он достает из кармана куртки белый бумажный кулек и протягивает мне. Внутри печенье. Мы никогда не могли себе позволить таких лакомств.
– Спасибо, – говорю я. Пекарь, не слишком-то разговорчивый и в лучшие времена, сейчас вовсе не в состоянии выдавить ни слова. – Сегодня утром я ела ваш хлеб. Мой друг Гейл отдал вам за него белку.
Пекарь кивает, как будто вспомнил.
– В этот раз вы продешевили.
В ответ он только плечами пожимает – неважно, мол.
Теперь и я не знаю, что сказать. Так мы и сидим молча, пока не приходит миротворец. Тогда пекарь встает и откашливается.
– Я присмотрю за малышкой. Голодать не будет, не сомневайся.
От этих слов на душе становится чуточку легче. Люди знают, что со мной можно иметь дело, зато Прим они по-настоящему любят. Надеюсь, этой любви хватит, чтобы она выжила.
Следующую гостью я тоже не ожидала. Уверенным шагом ко мне приближается Мадж. Она не плачет и не отводит глаз, но в ее голосе слышится странная настойчивость.
– На арену разрешают брать с собой одну вещь из своего дистрикта. Что-то, напоминающее о доме. Ты не могла бы надеть вот это?
Она протягивает мне круглую брошь – ту, что сегодня украшала ее платье. Тогда я не рассмотрела ее как следует, теперь вижу: на ней маленькая летящая птица.
– Твою брошь? – удивляюсь я. Вот уж не думала брать с собой что-то на память.
– Я приколю ее тебе, ладно? – Не дожидаясь ответа, Мадж наклоняется и прикрепляет брошь к моему платью. – Пожалуйста, не снимай ее на арене, Китнисс. Обещаешь?
– Да, – отвечаю я.
Надо ж как меня сегодня одаривают! Печенье, брошь. А еще, уходя, Мадж целует меня в щеку. Может, Мадж в самом деле всегда была моей настоящей подругой?
Наконец приходит Гейл. И пусть мы никогда не испытывали друг к другу романтических чувств, но когда он протягивает руки, я, не раздумывая, бросаюсь к нему в объятия. Мне все так знакомо в нем – его движения, запах леса. Бывало, в тихие минуты на охоте я слышала, как бьется его сердце. Однако впервые я чувствую, как его стройное, мускулистое тело прижимается к моему.
– Я хотел тебе сказать, Китнисс, – говорит он. – Ты запросто получишь нож, но главное – раздобыть лук. С луком у тебя больше всего шансов.
– Там не всегда бывают луки, – отвечаю я.
Мне вспомнилось, как в один год трибутам дали только жуткие булавы с шипами, которыми те забивали друг друга насмерть.
– Тогда сама сделай, – говорит Гейл. – Лучше плохой лук, чем никакого.
Я несколько раз пыталась изготовить лук по образцу отцовых, ничего путного не выходило. Не так это просто, как кажется. Даже отцу случалось портить заготовку.
– Может, там и деревьев не будет, – говорю я.
Как-то раз всех забросили в местность, где были сплошь только валуны и низкий уродливый кустарник. Тот год мне особенно не понравился. Многие погибли от укусов змей или обезумели от жажды.
– Деревья есть почти всегда, – возражает Гейл. – Никому ведь не интересно смотреть, когда половина участников умирает просто от холода.
Это верно. В один из сезонов мы видели, как игроки ночами замерзали насмерть. Их почти нельзя было разглядеть, так они съеживались, и ни одного деревца кругом, чтобы развести костер или хотя бы зажечь факел. В Капитолии посчитали, что такая смерть, без битв и без крови, не слишком захватывающее зрелище, и с тех пор деревья обычно бывали.
– Да, почти всегда есть, – соглашаюсь я.
– Китнисс, это ведь все равно что охота. А ты охотишься лучше всех, кого я знаю.
– Это не просто охота. Они вооружены. И они думают.
– Ты тоже. И у тебя больше опыта. Настоящего опыта. Ты умеешь убивать.
– Не людей!
– Думаешь, есть разница? – мрачно спрашивает Гейл.
Самое ужасное – разницы никакой нет, нужно всего лишь забыть, что они люди.
Миротворцы возвращаются слишком скоро, Гейл просит еще подождать, но они все равно его уводят, и мне становится страшно.
– Не дай им погибнуть от голода! – кричу я, цепляясь за его руку.
– Не дам! Ты же знаешь! Китнисс, помни, что я…
Миротворцы растаскивают нас в стороны, дверь захлопывается, и я никогда не узнаю, что он хотел сказать.
От Дома правосудия до станции рукой подать, особенно на машине. Никогда раньше не ездила на машине. На повозках и то редко. В Шлаке все ходят пешком.
Хорошо, что я не плакала. Вся платформа кишит репортерами, их похожие на насекомых камеры направлены прямо мне в лицо. Впр
Страница 12
чем, я привыкла скрывать свои чувства. И сейчас мне это тоже удается. Мой взгляд падает на экран, где в прямом эфире показывают наш отъезд, и я с удовольствием отмечаю, что вид у меня почти скучающий.Пит Мелларк, напротив, явно плакал и, как ни странно, даже не пытается это скрыть. Мне приходит в голову мысль: уж не тактика ли у него такая? Казаться слабым и напуганным, убедить всех, что его и в расчет не стоит принимать, а потом вдруг развернуться, чтобы чертям тошно стало. Несколько лет назад это сработало. Джоанна Мейсон, девочка из Дистрикта-7, все строила из себя дурочку и трусиху с глазами на мокром месте, пока из участников почти никого не осталось. Изощреннейшей убийцей оказалась. Здорово придумано – ничего не скажешь. Но у Пита Мелларка этот номер не пройдет. Вон какие плечи широченные. Еще бы. Сын пекаря, голодом не измучен и с хлебными лотками наупражнялся будь здоров – таскал их туда-сюда целыми днями. Тут уж все будут начеку, сколько сопли ни пускай.
Несколько минут мы стоим в дверях вагона под жадными объективами телекамер, потом нам разрешают пройти внутрь, и двери милостиво закрываются. Поезд трогается.
Мы несемся так быстро, что у меня дух захватывает. Я ведь никогда раньше не ездила на поезде. Перемещения между дистриктами запрещены, кроме особо оговоренных случаев. Для нашего дистрикта особый случай – транспортировка угля. Но что такое обычный товарняк по сравнению с капитолийским экспрессом, у которого скорость – двести пятьдесят миль в час? До Капитолия мы доберемся меньше чем за сутки.
Нам рассказывали в школе, что Капитолий построен в горах, когда-то называвшихся Скалистыми. А Дистрикт-12 находится в местности, прежде известной как Аппалачи. Уже тогда, сотни лет назад, тут добывали уголь. Вот почему теперь шахты прорубают так глубоко.
В школе нас большей частью только про уголь и учат. Ну, еще читать и математике немножко. И каждую неделю обязательно лекция по истории Панема. Вечная болтовня о том, сколь многим мы обязаны Капитолию. Зато про восстание никогда толком не расскажут – почему и как все было. А рассказать, думаю, есть что. Впрочем, мне некогда этим интересоваться. Какая бы ни была правда, на хлеб ее не намажешь.
Поезд, предназначенный для трибутов, даже еще роскошнее, чем комната в Доме правосудия. Нам выделяют по отдельному купе, к которому примыкают гардеробная, туалет и душ с горячей и холодной водой. В домах у нас горячей воды нет. Приходится греть.
В выдвижных ящиках – красивая одежда. Эффи говорит, я могу надевать что хочу и делать что хочу – здесь все для меня. Нужно только через час выйти к ужину. Я снимаю мамино голубое платье и принимаю горячий душ. Я никогда раньше не была в душе. Это все равно что стоять под теплым летним дождем, только еще теплее. Затем надеваю темно-зеленую рубашку и штаны.
В последний момент вспоминаю о золотой броши Мадж. Теперь я рассматриваю ее как следует. Кажется, кто-то сделал сначала маленькую золотую птичку, а уж после прикрепил ее к кольцу. Птица касается кольца только самыми кончиками крыльев. Внезапно я узнаю ее – это ведь сойка-пересмешница!
Забавные птицы – сойки-пересмешницы, зато Капитолию они точно бельмо на глазу. Когда восстали дистрикты, для борьбы с ними в Капитолии вывели генетически измененных животных. Их называют перерождениями или просто переродками. Одним из видов были сойки-говоруны, обладавшие способностью запоминать и воспроизводить человеческую речь. Птиц доставляли в места, где скрывались враги Капитолия, там они слушали разговоры, а потом, повинуясь инстинкту, возвращались в специальные центры, оснащенные звукозаписывающей аппаратурой. Сначала повстанцы недоумевали, как в Капитолии становится известным то, о чем они тайно говорили между собою, ну а когда поняли, такие басни стали сочинять, что в конце концов капитолийцы сами в дураках и остались. Центры позакрывались, а птицы должны были сами постепенно исчезнуть – все говоруны были самцами.
Должны были, однако не исчезли. Вместо этого они спарились с самками пересмешников и так получился новый вид птиц. Потомство не может четко выговаривать слова, зато прекрасно подражает другим птицам и голосам людей – от детского писка до могучего баса. А главное, сойки-пересмешницы умеют петь как люди. И не какие-нибудь простенькие мелодии, а целые песни от начала до конца со многими куплетами – надо только не полениться вначале спеть самому, и птицам должен понравиться твой голос.
Отец очень любил соек-пересмешниц. В лесу, на охоте, он всегда насвистывал им сложные мелодии или пел песни, и, подождав немного, как бы из вежливости, они всегда пели в ответ. Такой чести удостаивается не каждый. Когда пел мой отец, все птицы замолкали и слушали. Его голос был такой красивый, мощный, светлый – в нем звучала сама жизнь, и хотелось плакать и смеяться одновременно. С тех пор как отец погиб, я забыла о сойках… Сейчас от взгляда на маленькую птичку на душе становится спокойнее. Будто отец все еще со мной и не даст меня в обиду. Я прикалываю брошь к р
Страница 13
башке, и на ее фоне кажется, что птица летит меж покрытых густой зеленью деревьев.Эффи Бряк приходит, чтобы отвести меня на ужин. Я иду вслед за ней по узкому качающемуся коридору в столовую, отделанную полированными панелями. Посуда не из пластика – изящная и хрупкая. Питер уже ждет нас за столом, рядом с ним – пустой стул.
– Где Хеймитч? – бодро осведомляется Эффи.
– В последний раз, когда я его видел, он собирался пойти вздремнуть, – отвечает Пит.
– Да, сегодня был утомительный день, – говорит Эффи.
Думаю, она рада, что Хеймитча нет. Я ее не виню.
Ужин состоит из нескольких блюд, и подают их не все сразу, а по очереди. Густой морковный суп, салат, бараньи котлеты с картофельным пюре, сыр, фрукты, шоколадный торт. Эффи постоянно напоминает нам, чтобы мы не слишком наедались, потому что дальше будет еще что-то. Я не обращаю на нее внимания – никогда еще не видела столько хорошей еды сразу. К тому же самая лучшая подготовка к Играм, на какую я сейчас способна, это набрать пару фунтов веса.
– По крайней мере у вас приличные манеры, – говорит Эффи, когда мы заканчиваем главное блюдо. – Прошлогодняя пара ела все руками, как дикари. У меня от этого совершенно пропадал аппетит.
Те двое с прошлого года были детьми из Шлака, и они никогда за всю свою жизнь не наедались досыта. Неудивительно, что правила поведения за столом не сильно их заботили. Мы – другое дело. Пит – сын пекаря; нас с Прим учила мама. Что ж, пользоваться вилкой и ножом я умею. Тем не менее замечание задевает меня за живое, и до конца ужина я ем исключительно пальцами.
Потом вытираю руки о скатерть, заставляя Эффи поджать губы еще сильнее.
Наелась я до отвала, теперь главное удержать все это в себе. Пит тоже выглядит довольно бледно. К таким пирам наши желудки не привычны. Но раз уж я выдерживаю мышиное мясо с поросячьими кишками – стряпню Сальной Сэй, а зимой и древесной корой не брезгую, то тут как-нибудь справлюсь.
Мы переходим в другое купе смотреть по телевизору обзор Жатвы в Панеме. В разных дистриктах ее проводят в разное время, чтобы все можно было увидеть в прямом эфире, но это, конечно, только для жителей Капитолия, которым не приходится самим выходить на площадь.
Одну за другой показывают все церемонии, называют имена; иногда выходят добровольцы. Мы внимательно разглядываем наших будущих соперников. Некоторые сразу врезаются в память. Здоровенный парень из Дистрикта-2 чуть из кожи не выпрыгнул, когда спросили добровольцев. Девочка с острым лисьим лицом и прилизанными рыжими волосами из Пятого дистрикта. Хромоногий мальчишка из Десятого. Но более всех запоминается девочка из Дистрикта-11, смуглая, кареглазая, и все же очень похожая на Прим ростом, манерами. Ей тоже двенадцать. Вот только когда она поднимается на сцену и ведущий задает вопрос о добровольцах, слышен лишь вой ветра среди ветхих построек за ее спиной. Нет никого, кто бы встал на ее место.
Последним показывают Дистрикт-12. Вот называют имя Прим, вот выбегаю я и отталкиваю ее назад. В моем крике отчаяние, словно боюсь, что меня не услышат и все равно заберут Прим. Я вижу, как Гейл оттаскивает сестру и я взбираюсь на сцену. Потом – молчание. Тихий прощальный жест. Комментаторы, похоже, в затруднении. Один из них замечает, что Дистрикт-12 всегда был чересчур консервативен, но в местных традициях есть свой шарм. Тут, как по заказу, со сцены падает Хеймитч, и из динамиков раздается дружный хохот. Наше с Питом рукопожатие. Потом играет гимн, и программа заканчивается.
Эффи Бряк недовольна тем, как выглядел ее парик.
– Вашему ментору следовало бы научиться вести себя на официальных церемониях. Особенно когда их показывают по телевизору.
Пит неожиданно смеется.
– Да он пьяный был. Каждый год напивается.
– Каждый день, – уточняю я и тоже не удерживаюсь от улыбки.
Со слов Эффи выходит так, что Хеймитч просто несколько неотесан и все можно исправить, если он будет следовать ее советам.
– Вот как! – шипит она. – Странно, что вы находите это забавным. Ментор, как вам должно быть известно, – единственная ниточка, связывающая игроков с внешним миром. Тот, кто дает советы, находит спонсоров и организует вручение подарков. От Хеймитча может зависеть, выживете вы или умрете!
В этот момент в купе пошатываясь входит Хеймитч.
– Я пропустил ужин? – интересуется он заплетающимся языком, блюет на дорогущий ковер и сам падает сверху.
– Что ж, смейтесь дальше! – заявляет Эффи Бряк и семенит в своих узких туфельках мимо лужи с блевотиной к выходу.
Пару секунд мы с Питом молча наблюдаем, как наш ментор пытается подняться из скользкой мерзкой жижи. Вонь от блевотины и спирта стоит такая, что меня саму чуть не выворачивает. Мы переглядываемся. Да, толку от Хеймитча мало, однако больше нам рассчитывать не на кого, тут Эффи Бряк права. Не сговариваясь, мы берем Хеймитча за руки и помогаем встать на ноги.
– Я споткнулся? – осведомляется он. – Ну и запах!
Он закрывает ладонью нос, вымазывая лицо блевотиной.
– Давайте мы отведем
Страница 14
вас в купе, – предлагает Пит. – Вам стоит помыться.Хеймитч едва переставляет ноги, и мы почти тащим его на себе. Конечно, не может быть и речи, чтобы взвалить эту грязную тушу прямо на расшитое покрывало, мы заталкиваем его в ванну и включаем душ. Он почти не реагирует.
– Спасибо, – говорит мне Пит. – Дальше я сам.
Я невольно чувствую к нему благодарность. Меньше всего мне хочется сейчас раздевать Хеймитча, отмывать блевотину с волосатой груди и укладывать его в постельку. Возможно, Пит старается произвести хорошее впечатление, стать любимчиком. Хотя, судя по состоянию Хеймитча, утром он все равно ничего не вспомнит.
– Ладно, – отвечаю я. – Могу позвать тебе на помощь кого-нибудь из капитолийцев. Их тут полно в поезде. Готовят, прислуживают, охраняют. Заботиться о нас – их работа.
– Обойдусь.
Я киваю и отправляюсь к себе. Пита можно понять, сама не выношу капитолийцев. Хотя возиться с пьяным Хеймитчем – это как раз то, что они заслуживают. Интересно, отчего Пит такой заботливый? И внезапно понимаю – просто он добрый и был таким всегда. Поэтому и хлеба мне тогда дал.
От этой мысли мне становится не по себе. Добрый Пит Мелларк гораздо опаснее для меня, чем злой. Добрые люди норовят проникнуть тебе в самое сердце. Я не должна этого допустить. Только не там, куда мы едем. С этого момента я решаю держаться от пекарского сына подальше.
Когда я прихожу в купе, поезд останавливается у платформы для заправки. Я быстро открываю окно и вышвыриваю печенье, которое мне дал отец Пита. Не хочу. Ничего не хочу от них.
Как назло, пакет падает на клочок земли, поросший одуванчиками. Поезд уже отправляется; я вижу рассыпавшееся среди цветов печенье всего одно мгновение, но этого достаточно. Достаточно, чтобы вспомнить тот, другой одуванчик на школьном дворе…
Тогда, несколько лет назад, я только-только отвела взгляд от лица Пита Мелларка, как вдруг увидела одуванчик и поняла, что не все потеряно. Я бережно сорвала его и поспешила домой. Схватила ведро, и мы с Прим побежали на Луговину. Она и впрямь была вся усыпана золотистыми цветками. Мы рвали их вместе с листьями и стеблями, пока не набрали целое ведро, хотя для этого нам пришлось исходить Луговину до самого забора. Зато на ужин у нас было вдоволь салата из одуванчиков. А еще хлеб Пита.
Вечером Прим спросила:
– А что мы будем есть после? Сможем найти еще еду?
– Сможем. Много всего, – пообещала я. – Я обязательно что-нибудь придумаю.
У мамы сохранилась книга из аптеки. На ее старых пергаментных страницах тушью были нарисованы растения, и под каждым рисунком аккуратным почерком указано название, место, где его нужно искать, когда оно цветет и от каких болезней помогает. А на свободных страницах папа добавил еще кое-что от себя – о растениях не для аптекарей, но которые можно есть. Одуванчики, лаконос, дикий лук, молодые сосновые побеги. Мы с Прим до поздней ночи просидели над этими записями.
На следующий день в школе не было занятий. Я покрутилась немного на краю Луговины, а потом все-таки решилась и подлезла под забор. В первый раз я оказалась там совсем одна, без отцовой защиты, без оружия. Я помнила, где спрятаны маленький лук и стрелы, которые отец сделал для меня. В тот день я отважилась уйти в лес едва ли больше чем на полсотни шагов. Почти сразу же я облюбовала большой старый дуб и устроилась в его ветвях, надеясь застигнуть врасплох какую-нибудь дичь. Часа через два-три надежды оправдались: я подстрелила зайца. Мне и раньше доводилось стрелять зайцев, но то было с отцом. Теперь я все сделала сама.
К тому времени мы уже много месяцев не ели мяса. Когда мама увидела зайца, она как будто очнулась от наваждения. Поднялась, ободрала тушку и поставила мясо тушиться с зеленью, которую собрала Прим. Потом опять стала отрешенной и легла. Когда еда была готова, мы уговорили ее поесть.
Лес стал нашим спасителем, и с каждым днем я все смелее вступала в его зеленые объятия. Я твердо решила, что мы не будем больше голодать, и решимость победила страх. Я воровала яйца из гнезд, ловила сетями рыбу, иногда удавалось подстрелить белку или зайца. И, конечно, я собирала разные травы, попадавшиеся мне повсюду. С растениями смотри в оба. Съедобных среди них много, но стоит раз ошибиться, и тебе конец. Я всегда по сто раз сверялась с отцовыми рисунками.
Мы выжили.
Поначалу чуть какая опасность – вой вдалеке послышится или ветка неожиданно хрустнет, – я тут же бросалась к забору. Потом привыкла спасаться на деревьях – собакам быстро надоедает ждать внизу, а медведи и рыси живут глубоко в лесу; наверное, запаха гари из дистрикта не любят.
Восьмого мая я отправилась в Дом правосудия и, получив тессеры, привезла домой на детской тачке сестры первую порцию зерна и масла. Теперь я имела право получать их восьмого числа каждого месяца. Тем не менее бросать охоту и собирательство было нельзя. Зерна и на еду-то не хватает, а нужно ведь еще другое покупать – мыло, молоко, нитки. То, без чего мы худо-бедно могли обойтись, я продавала в Котле
Страница 15
В первые разы идти туда одной было страшно, но люди помнили и уважали моего отца, и меня приняли. К тому же дичь есть дичь – неважно, кто ее подстрелил. Еще я стала ходить со своим товаром к домам богатых горожан. Тут тоже свои хитрости. Какие-то я помнила из разговоров с отцом, чему-то научилась сама. Мясник, к примеру, берет только зайцев, с белками к нему не лезь. Пекарь – другое дело, белок любит, хотя купит, только если жены нет рядом. Глава миротворцев – тому диких индеек подавай. Ну а для мэра лучше земляники ничего нет.Однажды в конце лета я купалась в озере, и мое внимание привлекла высокая трава, торчащая из воды. У нее были белые цветы с тремя лепестками, а листья острые, как наконечники стрел. Я присела в воде и, раскопав пальцами мягкое дно, вытащила горсть корней. Невзрачные голубоватые клубни, но если сварить, не хуже картошки будут. «Китнисс», – произнесла я вслух. Это давнее название стрелолиста дало мне имя. Я словно услышала веселый голос отца: «С голоду ты не умрешь, тебе нужно только найти себя». Несколько часов я выкапывала где палкой, где пальцами ног маленькие клубеньки. Вечером у нас был пир – рыба с корнями стрелолиста, и мы впервые за долгие месяцы наелись досыта.
Постепенно мама вернулась к жизни. Она начала убираться и готовить; делала соленья на зиму, когда было из чего. Потом к ней стали приходить люди за лекарствами. Платили деньгами или давали что-нибудь в обмен. Однажды я услышала, как мама поет.
Прим не помнила себя от радости, что мама снова в порядке, но я была настороже и все боялась, что это ненадолго. Я ей больше не доверяла. Во мне выросло что-то жесткое и неуступчивое, и оно заставляло меня ненавидеть маму за ее слабость, безволие, за то, что нам пришлось пережить. Прим сумела простить, я – нет. Между нами все стало по-другому. Я оградила себя стеной, чтобы никогда больше не нуждаться в маме.
Теперь я умру и ничего уже не исправлю. Я вспомнила, как кричала на нее сегодня в Доме правосудия. Но ведь я сказала, что люблю ее. Может, одно уравновешивает другое?
Я стою и смотрю в окно, мне хотелось бы его открыть, да не знаю, что может случиться на такой скорости. Вдали виднеются огни другого дистрикта. Седьмого? Десятого? Я думаю о людях в тех домах, они уже ложатся спать. Потом представляю себе наш дом с плотно закрытыми ставнями. Что сейчас делают мама и Прим? К ужину мы оставляли тушеную рыбу и землянику. Смогли ли они поесть? Или все так и осталось нетронутым? Наверняка они смотрели повтор Жатвы по нашему старенькому телевизору. Плакали. Держится ли мама? Хотя бы ради Прим. Неужели опять отстранится от всего мира, взвалив его тяжесть на хрупкие плечи Прим?
Прим, конечно же, ляжет спать с мамой. Рядом примостится старый верный Лютик, будет охранять их сон. Эта мысль меня немного утешает. Если Прим заплачет, он подберется поближе и приласкается, успокаивая ее. Хорошо, что я его не утопила.
От воспоминаний о доме становится тоскливо. День тянется бесконечно. Неужели только сегодня утром мы с Гейлом ели ежевику? Кажется, прошла целая жизнь. Очень долгий сон, превратившийся в кошмар. Может, если я лягу спать, то проснусь в своем Дистрикте-12?
В выдвижных ящиках, наверное, полно ночных сорочек, но я просто стягиваю штаны и рубашку и ложусь в кровать. Шелковые простыни ласкают кожу, а легкое пуховое одеяло сразу окутывает теплом.
Если я собираюсь выплакаться, то сейчас самое время. Утром умоюсь. Слезы не приходят. Внутри все перегорело, я чувствую только усталость и хочу домой. Под мерное покачивание поезда я забываюсь.
Меня будит стук в дверь, сквозь оконные занавески уже просачивается серый свет. Я слышу голос Эффи Бряк: «Подъем, подъем! Нас ждет важный-преважный день!» Интересно, что творится в голове у этой женщины? Какие мысли занимают ее днем? Что ей снится по ночам? Трудно себе представить.
Я надеваю вчерашнюю одежду, она еще чистая, только немного измялась, провалявшись ночь на полу. Обвожу пальцем маленькую золотую сойку-пересмешницу и думаю о лесе, об отце, о том, что делали мама и Прим. Справятся ли они без меня? Я не распускала на ночь волосы, так и спала с косой, которую мама старательно заплела мне перед Жатвой. Прическа выглядит не так уж плохо. Пусть пока остается как есть. Все равно уже ненадолго. Скоро мы прибудем в Капитолий, и там моим образом для церемонии открытия Игр займется стилист. Надеюсь, не из тех, кто считает высшим писком моды наготу.
Когда я вхожу в вагон-ресторан, мимо меня, бормоча под нос ругательства, проскальзывает Эффи Бряк с чашкой кофе. Хеймитч давится от смеха. Лицо у него опухшее и красное от вчерашних возлияний. Пит с булочкой в руке сидит рядом. Выглядит он слегка смущенным.
– Давай садись! – машет мне Хеймитч.
Едва я опускаюсь на стул, передо мной возникает большой поднос. Ветчина, яйца, гора жареной картошки. На льду стоит ваза с фруктами. Булочек в корзинке хватило бы нашей семье на целую неделю. В изящном стакане апельсиновый сок. Я так думаю, что апельсиновый. Апельсин я пробовала в
Страница 16
его один раз, папа купил его на Новый год как подарок. Чашка кофе. Мама обожает кофе, хотя мы редко могли его купить, а я не понимаю, что в нем хорошего; только горечь во рту. И в довершение – красивая чашка с чем-то коричневым, чего я никогда не пробовала.– Это горячий шоколад, – объясняет Пит. – Он вкусный.
Я пробую горячую густую жидкость на вкус, и по спине пробегают мурашки. Какими бы аппетитными ни выглядели другие кушанья, я забываю о них, пока не выпиваю все до капли. Потом запихиваю в себя все, что можно, стараясь не налегать на жирное. И без того еды навалом.
Когда мой живот уже чуть не лопается, я откидываюсь назад и молча смотрю на сотрапезников. Пит еще ест, отламывает кусочки булки и окунает их в горячий шоколад. Хеймитч почти ничего не взял со своего подноса, зато регулярно опрокидывает стаканы с красным соком, разбавленным какой-то прозрачной жидкостью из бутылки. Пахнет спиртным. Я не была раньше знакома с Хеймитчем, однако часто встречала его в Котле, видела, как он горстями швырял деньги на прилавок, где продавали самогон. Когда приедем в Капитолий, он лыка вязать не будет.
Меня переполняет ненависть к Хеймитчу. Неудивительно, что ребята из нашего дистрикта не побеждают. Конечно, мы вечно полуголодные и тощие, и тренировки у нас никакой. Однако были же и среди наших трибутов сильные, те, кто мог бороться. И кто тогда виноват, что нет спонсоров, как не ментор? Богачи охотно поддерживают тех, у кого есть шансы, – либо ставки делают, либо самолюбие хотят потешить, – а кому придет в голову вести переговоры с таким отребьем, как Хеймитч?
– Вы, значит, будете давать нам советы? – говорю я Хеймитчу.
– Даю прямо сейчас: останься живой, – отвечает Хеймитч и дико хохочет.
Я бросаю взгляд на Пита, забыв, что решила не иметь с ним никаких дел. С удивлением замечаю в его глазах жесткость.
– Очень смешно, – говорит он без обычного добродушия и внезапно выбивает из руки Хеймитча стакан. Тот разлетается на осколки, и его содержимое течет по проходу, как кровь. – Только не для нас.
Хеймитч на секунду столбенеет, потом ударом в челюсть сшибает Пита со стула и, повернувшись, опять тянется к спиртному. Мой нож успевает раньше: вонзается в стол перед самой бутылкой, едва не отрубая Хеймитчу пальцы. Готовлюсь отвести удар, но Хеймитч вдруг откидывается на спинку стула и смотрит на нас с прищуром.
– Надо же! – говорит он. – Неужели в этот раз мне досталась пара бойцов!
Пит поднимается с пола и, захватив из-под вазы с фруктами пригоршню льда, собирается приложить его к красному пятну на щеке.
– Нет, – останавливает его Хеймитч, – пусть останется синяк. Все будут думать, что ты сцепился с кем-то из конкурентов еще до арены. Не утерпел.
– Это ведь не по правилам.
– Тем лучше. Значит, ты не только подрался, но и сумел сделать так, что тебя не поймали.
Хеймитч поворачивается ко мне.
– А ну-ка покажи еще, как ты ножом орудуешь!
Мое оружие – лук. Хотя с ножами я тоже дело имела. Если зверь крупный, стрелой его не всегда сразу возьмешь; лучше метнуть нож для верности, а уж потом подходить. И вот теперь выпал шанс произвести на Хеймитча впечатление и доказать, что меня нужно принимать всерьез. Выдергиваю нож из стола и, взяв за лезвие, бросаю его в противоположную стену. Вообще-то я только хотела вогнать его покрепче в дерево, однако нож попадает в шов между двумя панелями, и кажется, будто я так и задумывала.
– Станьте вон там, вы оба! – командует Хеймитч, кивая на середину вагона.
Мы послушно становимся, и он ходит вокруг нас кругами, тычет в нас пальцами, словно мы лошади на рынке, щупает мускулы, заглядывает в лица.
– Ну… вроде не безнадежно. Не дохляки. А стилисты поработают, так даже симпатичными будете.
Мы с Питом понимаем. Голодные игры – не конкурс красоты, но замечено не раз: чем смазливее трибут, тем больше спонсоров ему достается.
– Ладно. Предлагаю сделку: вы мне не мешаете пить, а я остаюсь достаточно трезвым, чтобы вам помогать, – говорит Хеймитч. – Только, чур, слушаться меня беспрекословно.
Условия, конечно, не идеальные, но, по сравнению с тем, что было десять минут назад, прорыв огромный.
– Идет, – соглашается Пит.
– Вот и помогите, – говорю я. – Когда мы попадем на арену, как лучше всего действовать у Рога изобилия, если…
– Не все сразу. Через пару минут мы прибываем на станцию, и вас отдадут стилистам. Уверен, вам понравится далеко не все из того, что они будут делать. Что бы это ни было, не возражайте.
– Но…
– Никаких «но». Делайте, как вам говорят.
Хеймитч берет со стола бутылку и уходит. Как только закрывается дверь, становится темно. Внутри вагона еще можно что-то разглядеть, кое-где горит подсветка, а за окнами словно опять наступила ночь. Мы, видимо, въехали в туннель сквозь горы, отделяющие столицу от дистриктов. С востока в Капитолий почти невозможно проникнуть иначе как через туннели. Из-за географического преимущества Капитолия дистрикты и проиграли войну. Воздушным силам Капитолия легче легкого было ра
Страница 17
стрелять повстанцев, когда те стали карабкаться по горам.Пит Мелларк и я молча стоим на месте, пока поезд мчится сквозь кромешную тьму. Туннелю, кажется, нет конца, и от мысли, сколько тонн скальной породы отделяет нас сейчас от неба, у меня сжимается сердце. Жутко и противно быть вот так замурованной в камень. На ум приходят шахты и мой отец, оказавшийся запертым внутри них, как в ловушке, без надежды увидеть солнце, навеки погребенный в их мраке.
Наконец поезд сбавляет ход, и вагон заливается светом. Как по команде, мы с Питом несемся к окну скорее увидеть то, что до сих пор видели лишь по телевизору, – всевластный Капитолий, главный город Панема. Телекамеры ничуть не преувеличивали его великолепия. Скорее наоборот. Разве способно что-то передать такое величие и роскошь? Здания, уходящие в небо и сверкающие всеми цветами радуги. Блестящие машины, раскатывающие по широким мощеным улицам. Необычно одетые люди с удивительными прическами и раскрашенными лицами, люди, которым никогда не случалось пропускать обеда. Цвета кажутся ненастоящими – не бывает такого чистого розового, такого яркого зеленого, такого светлого желтого, что глазам больно смотреть. Они такие же, как маленькие кругляши леденцов в кондитерском магазинчике в Дистрикте-12, о которых мы даже мечтать не осмеливались, настолько они дорогие.
Люди узнают поезд, перевозящий трибутов, и возбужденно тычут в нашу сторону. Я отступаю от окна, меня тошнит от того, как они воодушевляются, предвкушая зрелище нашей смерти. Пит, однако, остается на месте и даже машет рукой и улыбается зевакам до тех пор, пока поезд не заезжает на станцию и не скрывает нас от их глаз.
Пит видит, каким взглядом я на него смотрю, и пожимает плечами.
– Кто знает? – говорит он. – Среди них могут быть спонсоры.
Надо же, как я в нем ошибалась! Я вспоминаю все действия Пита с момента, как мы вышли на сцену. Дружеское рукопожатие. Его отец с печеньем и обещанием помогать Прим… может, сам Пит его и прислал? Слезы на станции. Вчерашняя забота о Хеймитче и вызывающее поведение сегодня, когда стало ясно, что играть в хорошего мальчика без толку. А теперь еще эти приветственные жесты из окна, желание сразу же понравиться толпе.
Все стало на свои места, все – часть одного плана. Пит не считает себя обреченным. Он уже изо всех сил сражается за жизнь. А значит, добрый сын пекаря, подаривший мне хлеб, постарается убить меня.
4
Вжи-и-ик! Я стискиваю зубы, когда Вения, женщина с волосами цвета морской волны и золотистыми татуировками над бровями, дергает за клейкую ленту, выдирая волосы на моей ноге.
– Прошу прощения, – пищит она, – но у тебя слишком много волос!
Почему у них всех такие дурацки писклявые голоса? Почему они едва раскрывают рот, когда говорят, а любая фраза звучит вопросом? Гласные какие-то не такие, слова оборванные, на месте «с» присвист… так и хочется передразнить.
Вения скрючивает сострадательную – как ей, наверное, кажется – гримасу.
– Могу тебя обрадовать. Эта – последняя. Готова?
Я вцепляюсь руками в края стола, на котором сижу, и киваю. Рывок, боль, и последняя полоска волосков выдрана с корнем.
Здесь, в Центре преображения, я торчу уже больше трех часов и еще не видела своего стилиста. Очевидно, ему нет смысла встречаться со мной, пока его помощники не сделают самое необходимое. Сначала меня обтерли жесткой губкой, содрав при этом не только грязь, но и слоя три кожи, потом обрезали ногти так, чтобы все они стали одинаковой формы, и, самое главное, удалили волосы. С ног, с рук, с туловища, из подмышек. Даже брови наполовину вырвали. Теперь я как ощипанная курица, которую приготовили для жарки. Ощущение не из приятных. Вся кожа саднит, жжет и, кажется, сейчас прорвется. Однако я выполнила свою часть сделки с Хеймитчем, с моих губ не сорвалось ни слова протеста.
– А ты молодец, – говорит некто по имени Флавий, взбивая оранжевые локоны у себя на голове и накладывая свежий слой фиолетовой помады на губы. – Вот кого мы не любим, так это нытиков. Оботрите-ка ее лосьоном!
Вения и Октавия, полная женщина с телом, окрашенным в бледно-зеленый цвет, принимаются за дело. Лосьон вначале щиплет, потом успокаивает измученную кожу. Меня стаскивают со стола и снимают тонкую накидку, которую мне время от времени позволяли надевать. Я стою совсем голая, пока они втроем суетятся вокруг меня с щипчиками, удаляя случайно уцелевшие волоски. Как ни странно, я нисколько не смущаюсь, эта тройка больше походит не на людей, а на стайку экзотических птиц, клюющих что-то у моих ног.
Наконец они отходят и любуются результатом.
– Прелестно! Теперь ты выглядишь почти человеком! – говорит Флавий, и они смеются.
Я заставляю себя улыбнуться, чтобы не казаться неблагодарной.
– Спасибо, – любезно говорю я. – У нас в Дистрикте-12 редко выпадает повод выглядеть красиво.
Теперь их симпатии целиком на моей стороне.
– Да, конечно, бедняжка! – Октавия сочувственно всплескивает руками.
– Не переживай, – подбадривает Вения. – После того
Страница 18
ак тобой займется Цинна, ты будешь просто неотразима!– Можешь не сомневаться! Мы только грязь и лишние волосы убрали, а ты уже ничего, не такая и страшненькая! – вторит ей Флавий. – Пойдем звать Цинну.
Они разом вылетают из комнаты. Я не испытываю к ним неприязни. Хотя они и кретины, но, похоже, честно стараются мне помочь.
Меня окружают холодные белые стены, и я с трудом подавляю желание набросить накидку. Все равно Цинна наверняка сразу же заставит ее снять. Вместо этого я ощупываю свою прическу, единственное, до чего не добрались помощники стилиста. Пальцы скользят по шелковистым косам, старательно заплетенным мамой. Мама. Ее голубое платье и туфли так и остались на полу вагона, и я даже не подумала их забрать, сохранить что-то, напоминающее о ней и о доме. Теперь я об этом жалею.
Дверь отворяется, и входит молодой человек – по-видимому, Цинна. Его внешность настолько обычная, что я поражена. Стилисты, которых показывают по телевизору, все как один крашеные и с карикатурными от множества пластических операций лицами. У Цинны коротко подстриженные каштановые волосы, вполне натуральные. Одет он в простую черную рубашку и брюки. Единственная уступка всеобщей тяге к самораскрашиванию – легкая золотистая подводка вокруг глаз. Несмотря на все мое отвращение к Капитолию и к его омерзительно причудливой моде, я невольно залюбовалась этими зелеными глазами с отражающимися в них золотыми крапинками.
– Привет, Китнисс. Я Цинна, твой стилист, – говорит он спокойным голосом, в котором почти не чувствуется капитолийской манерности.
– Привет, – настороженно отвечаю я.
– Так, посмотрим.
Цинна принимается ходить вокруг меня, не притрагиваясь, но впитывая взглядом каждый дюйм моего обнаженного тела. Мне хочется скрестить руки на груди.
– Кто делал тебе прическу?
– Мама.
– Прекрасно. Классический вариант. Идеально сочетается с твоим профилем. У твоей мамы умные руки.
Цинна ни в чем не соответствует моим представлениям. На его месте я ожидала увидеть какого-нибудь молодящегося фигляра, для которого я всего лишь кусок мяса, ждущий, пока его искусно приготовят.
– Вы тут недавно, правда? Мне кажется, я вас раньше не видела, – говорю я.
Большинство стилистов, работающих с трибутами, хорошо известны. Некоторых я помню с детства.
– Да, это мой первый год на Играх.
– Поэтому вам всучили Дистрикт-12, – констатирую я. Новичкам обычно достается то, что не хотят брать другие.
– Я сам попросил, – говорит Цинна. – Можешь надеть халат, и мы обсудим твой образ.
Одевшись, я иду за Цинной в зал, где стоят два красных дивана с низким столиком посередине. Три голые стены, четвертая – из стекла, сквозь него открывается вид на город. Небо, с утра солнечное, теперь затянуто облаками, но судя по тому, как падает свет, сейчас около полудня. Цинна предлагает мне присесть и сам занимает место напротив. Он надавливает кнопку сбоку столика, тот раскрывается, и снизу выезжает полка с нашим завтраком. Цыплята в сливочном соусе с кусочками апельсинов, уложенные на гарнир из жемчужно-белых зернышек, крохотных зеленых горошин и лука, булочки в форме цветов, а на десерт – пудинг медового цвета.
Здорово было бы приготовить такую еду дома. Курятина, правда, слишком дорогая, но можно взять дикую индейку. Пришлось бы подстрелить двух индеек и одну сменять на апельсин. Козье молоко сойдет вместо сливок, горошек можно вырастить в огороде, а в лесу набрать дикого лука. Вот зерен этих я не знаю, то, что нам дают на тессеры, разваривается в неаппетитную коричневую кашу. За фигурными булочками нужно идти к пекарю, нести двух-трех белок. С пудингом еще сложнее, я даже не представляю, из чего он сделан… Чтобы раздобыть все необходимое, я потратила бы не один день, и все равно получилось бы лишь жалкое подобие обычного капитолийского обеда.
Каково это жить в мире, где еда появляется на столе по нажатию кнопки? Что бы я делала все те часы, что трачу на прочесывание лесов в поисках пропитания? Чем заняты эти люди в Капитолии помимо расцвечивания собственных тел и ожидания очередной партии трибутов, пачками гибнущих ради их развлечения?
Я поднимаю глаза на Цинну, и наши взгляды встречаются.
– Ты, должно быть, нас презираешь, – говорит он.
Неужели это так ясно написано у меня на лице? Или он читает мои мысли? Он, конечно, прав. Меня тошнит от всей этой своры.
– Ладно, не имеет значения, – продолжает Цинна. – Итак, Китнисс, поговорим о твоем костюме для церемонии. Моя коллега Порция работает с твоим земляком Питом. Мы решили, что будет хорошо создать ваши образы в одном стиле, отражающем дух вашего дистрикта.
По традиции костюмы трибутов на церемонии открытия соответствуют основному занятию дистрикта, из которого они прибыли. В Одиннадцатом дистрикте – это сельское хозяйство, в Четвертом – рыбная ловля, в Третьем – фабричное производство. С нашим дистриктом у стилистов беда. Мешковатые и грубые шахтерские комбинезоны не очень-то привлекательны. Кроме касок с фонариками, на наших трибутах обычно вообщ
Страница 19
мало что надето. В один год так и вовсе голышом выпустили, только кожу чем-то черным обмазали вместо угольной пыли. Получилось ужасно. Как, впрочем, и всегда. Да уж, фаворитами у публики нам не стать. Я готовлюсь к худшему.– Значит, я буду изображать шахтера? – спрашиваю я, надеясь не показаться бесцеремонной.
– Не совсем. Видишь ли, нам с Порцией кажется, что шахтерская тематика порядком приелась. Этим уже никого не удивишь. А наша задача сделать своих трибутов незабываемыми.
Точно – выставят голой, промелькнуло у меня в голове.
– Так что на сей раз мы решили обратиться к углю, а не к угледобыче.
Ну все, еще и в пыли обваляют.
– А что мы делаем с углем? Сжигаем его! – воодушевленно продолжает Цинна. – Надеюсь, ты не боишься огня, Китнисс?
Мое выражение лица вызывает у него улыбку.
Спустя пару часов я облачена в самый поразительный, а может статься, самый убийственный наряд за всю историю Игр. От щиколоток до шеи меня обтягивает обычное черное трико; на ногах – блестящие кожаные сапоги, зашнурованные до самых колен. Но главное – это легкая развевающаяся накидка из желтых, оранжевых, красных лент и соответствующий ей головной убор. Цинна подожжет их перед нашим выездом на колесницах.
– Огонь, разумеется, ненастоящий. Нам с Порцией удалось раздобыть немного синтетического пламени. Совершенно безопасно, – уверяет Цинна.
Меня это не убеждает. Боюсь, пока мы прибудем в центр города, я успею хорошенько прожариться.
На моем лице минимум косметики, всего несколько легких штрихов. Мне расчесали волосы и снова заплели так, как я обычно их ношу.
– Я хочу, чтобы тебя узнавали на арене, – мечтательно произносит Цинна, – Огненную Китнисс.
«Да он просто сумасшедший, – думаю я обреченно. – А по виду ведь ни за что не скажешь».
Приходит Пит в точно таком же костюме, и, несмотря на то что утром я разгадала его хитроумные планы, мне становится спокойнее. Кому лучше знать об огне, как не сыну пекаря?
Пита сопровождает его стилист Порция с командой помощников. Все пьяны от возбуждения, предвкушая, какой фурор мы сейчас произведем. Все, кроме Цинны. Он лишь устало улыбается в ответ на поздравления.
Быстрый лифт доставляет нас на нижний этаж, представляющий собой гигантские конюшни. Церемония вот-вот начнется. Пары трибутов забираются в колесницы, запряженные четверками лошадей. Наша квадрига угольно-черная. Лошади так хорошо обучены, что сами идут куда нужно. Цинна и Порция указывают нам, как встать в колеснице, поправляют нашу одежду. Потом отходят в сторону и обсуждают что-то друг с другом.
– Что думаешь? – шепчу я Питу. – Об огне?
– Если что, я сорву твою накидку, а ты срывай мою, – говорит он, сжав зубы.
– Идет, – соглашаюсь я. Может, мы и не успеем очень уж сильно обгореть, если поторопимся. И все равно хорошего мало. На арену нас выбросят в любом случае; на ожоги не посмотрят. – Мы, конечно, обещали Хеймитчу подчиняться, однако на такой поворот событий он вряд ли рассчитывал.
– Кстати, а где Хеймитч? – вспоминает Пит. – Разве он не должен защищать нас в подобных ситуациях?
– Без Хеймитча, по-моему, куда безопаснее, – возражаю я. – Он так проспиртовался, что от огня, боюсь, вспыхнет как спичка.
Тут мы смеемся. Видно, умом тронулись от волнения. Да и неудивительно: мало нам Игр, так еще из нас факелы решили сделать!
Начинает играть музыка. Ее отлично слышно даже здесь, а снаружи, наверное, хоть уши затыкай. Массивные двери разъезжаются и открывают вид на улицу; по обеим ее сторонам стоят толпы народа. Вся поездка займет двадцать минут и закончится приветствием и гимном на Круглой площади, после чего нас отправят в Тренировочный центр, который станет нам домом и тюрьмой до начала Игр.
Первыми на колеснице, запряженной белоснежными лошадьми, выезжают трибуты Дистрикта-1. В серебристых туниках, сверкающих драгоценными камнями, они выглядят великолепно. Дистрикт-1 изготовляет для Капитолия предметы роскоши. При виде всегдашних фаворитов толпа взрывается овациями.
Следующий – Дистрикт-2. Через считаные минуты подходит и наша очередь. Под хмурым небом уже сгущаются сумерки. Как только трогаются трибуты Дистрикта-11, к нам подбегает Цинна с зажженным факелом.
– Ну, пора, – говорит он, и поджигает наши накидки, мы и ойкнуть не успеваем.
Я вздрагиваю от ужаса, но, как ни странно, чувствую не жар, а только легкую щекотку. Цинна взбирается повыше, подносит пламя к головным уборам и с облегчением переводит дух: «Работает». Затем мягко приподнимает мой подбородок.
– Выше голову! И улыбайтесь. Они вас полюбят!
Цинна спрыгивает с колесницы и вдруг, вспомнив что-то еще, кричит нам; его слова тонут в грохоте музыки. Он кричит опять и размахивает руками.
– Что он хочет? – спрашиваю я Пита.
Я поворачиваюсь к нему и слепну от яркого света его пламенеющей одежды. Должно быть, я полыхаю так же.
– По-моему, он говорит, чтобы мы взялись за руки, – отвечает Пит и сжимает мою ладонь.
Цинна одобрительно кивает головой и поднимает большой палец. Это пос
Страница 20
еднее, что я вижу перед выездом.При нашем появлении толпа ахает, потом восхищенно ревет и скандирует: «Двенадцатый, двенадцатый!» Все взгляды обращены в нашу сторону, остальные колесницы забыты. Я вижу нас на огромном экране, и моя первоначальная скованность проходит. Мы выглядим потрясающе: в вечерних сумерках лица сияют отблесками огня, а горящие накидки оставляют за собой шлейф искр. Хорошо, что Цинна не переусердствовал с косметикой. Мы вполне узнаваемы.
«Выше голову. И улыбайтесь. Они вас полюбят», – звучат в голове слова Цинны. Я вздергиваю подбородок, приклеиваю на лицо самую обворожительную улыбку и приветственно машу свободной рукой. Рядом твердо, как скала, стоит Пит, и я рада, что могу за него держаться. Постепенно я совсем смелею и даже посылаю толпе воздушные поцелуи. Капитолийцы сходят с ума от восторга, забрасывают нас цветами и выкрикивают наши имена. Надо же, не поленились найти их в программках!
Оглушительная музыка, крики, овации будоражат кровь, и меня переполняет радостное возбуждение. Спасибо Цинне, он дал мне большое преимущество. Все запомнят Китнисс! Огненную Китнисс!
В первый раз передо мной мелькнул проблеск надежды. Ведь найдется же теперь хоть один спонсор! А если будет хоть небольшая помощь, сколько-нибудь еды да подходящее оружие, то на мне рано ставить крест. Я еще поборюсь!
Кто-то бросает мне алую розу. Я ловлю ее, подношу на мгновение к лицу и в ответ шлю воздушный поцелуй. Сотни рук взмывают вверх, словно его можно поймать.
«Китнисс! Китнисс!» – раздается отовсюду. Все ждут моих поцелуев.
Только когда мы въезжаем на Круглую площадь, я осознаю, насколько крепко сжимаю руку Пита. Должно быть, она совсем занемела. Пытаюсь разомкнуть пальцы, но Пит удерживает их.
– Не надо, пожалуйста, не отпускай, – говорит он. В его голубых глазах сверкают огненные блики. – А то я свалюсь с этой штуковины.
– Хорошо, – отвечаю я.
Мы так и стоим рука в руке. Мне не дает покоя мысль, зачем Цинна связал нас друг с другом. Как-то нечестно выставлять нас напарниками, а потом выбросить на арену смертельными врагами.
Двенадцать колесниц объезжают площадь. Окна соседних домов заполнены самыми влиятельными зрителями Капитолия. Лошади подтягивают колесницу к президентскому дворцу. Звучат фанфары, и музыка обрывается.
Президент Сноу, маленький, тщедушный мужчина с белесыми волосами, произносит с балкона официальное приветствие. Пока звучит речь, телевизионщики показывают лица трибутов. Так бывало на всех церемониях. Но я вижу на экране, кому в этот раз отдают предпочтение. Похоже, с наступлением темноты наш блеск все сильнее притягивает взгляды. Во время национального гимна объектив камеры лишь мельком проскальзывает по всем парам, с тем чтобы снова возвратиться к колеснице Дистрикта-12 и неотрывно следить за ней, пока она совершает финальный объезд площади и исчезает в воротах Тренировочного центра.
Едва они закрываются, нас шумной стайкой окружают стилисты, наперебой тараторя поздравления. Другие трибуты бросают на нас недобрые взгляды – мы в самом деле всех затмили, можно не сомневаться. Подходят Цинна и Порция, помогают нам слезть с колесницы, осторожно снимают горящие накидки и головные уборы. Порция тушит их, брызгая чем-то из баллончика.
Я замечаю, что все еще крепко держусь за Пита, и с трудом разжимаю ладонь. Мы оба работаем пальцами, чтобы вернуть им чувствительность.
– Спасибо, что не отпускала меня. Я все время боялся упасть, – говорит Пит.
– Правда? Уверена, никто ничего не заметил.
– Я уверен, рядом с тобой меня вообще не заметили. Огонь тебе явно к лицу. Может, будешь чаще так ходить?
Улыбка Пита кажется такой искренней и немножко смущенной, что я невольно чувствую к нему теплоту.
«Не будь дурой. Он только и думает, как тебя прикончить, – одергиваю я себя. – Завлекает, чтобы ты стала легкой добычей. Чем он любезнее, тем опаснее».
Почему бы ему не подыграть? Я встаю на цыпочки и целую его в щеку. В самый синяк.
5
Одна из высоток Тренировочного центра предназначена для трибутов и тех, кто их готовит. Там мы будем жить, пока не начнутся сами Игры. Каждому дистрикту отведен целый этаж. Заходишь в лифт и нажимаешь кнопку с номером своего дистрикта. Не запутаешься.
Дома я всего дважды ездила на лифте, в Доме правосудия. Первый раз когда получала медаль за смерть отца, и вчера после Жатвы. Но то была вонючая темная кабинка, ползущая, как черепаха. Здесь стены сделаны из стекла, и, несясь стрелой вверх, ты видишь, как люди на первом этаже превращаются в букашек. Здорово. Мне хочется спросить Эффи Бряк, можно ли прокатиться еще, да боюсь, это покажется ребячеством.
Очевидно, обязанности Эффи не ограничиваются нашей доставкой в Капитолий, она будет опекать нас до самой арены. Пожалуй, так даже лучше; хотя бы скажет, куда и когда мы должны идти. Хеймитч будто сквозь землю провалился. С тех пор как пообещал нам свою помощь тогда в поезде, мы его не видели. Небось упился так, что и на ногах стоять не может. Эффи Бряк, нап
Страница 21
отив, как на крыльях летает. Еще бы, впервые ее трибуты стали фаворитами на церемонии открытия. Она в восторге от того, как мы выглядели и как себя вели. Послушать Эффи, так она знает всех важных шишек в Капитолии и весь день бегала и расхваливала нас, подбивая стать нашими спонсорами.– Я старалась как могла, – говорит она, сощурив глаза, – хотя этот Хеймитч не счел нужным посвятить меня в ваши планы. Рассказывала, как Китнисс пожертвовала собой ради сестры, как вы оба возвысились над варварством своего дистрикта.
Варварство? Звучит как злая насмешка из уст того, кто ведет нас на бойню. И что значит «возвысились»? Умеем вести себя за столом?
– Мне пришлось воевать с предубеждениями. Вы ведь из угольного дистрикта. Но я им сказала – и очень удачно, заметьте: «Что ж, если как следует надавить на уголь, он превращается в жемчуг!»
Эффи так довольна собой, и нам ничего не остается, как восхититься ее находчивостью, даром что она мелет полную чушь. Уголь никогда не превращается в жемчуг. Жемчужины вырастают в раковинах. Наверное, она имела в виду алмазы. Хотя это тоже неправда. Я слышала, в Дистрикте-1 есть машина, делающая алмазы из графита. У нас графит не добывают. Этим занимался Дистрикт-13, пока его не разрушили.
Интересно, люди, которым она нас рекламировала, тоже так считают? Или им без разницы?
– К сожалению, я не могу подписывать за вас договоры со спонсорами. Тут без Хеймитча не обойтись, – продолжает она с досадой. – Не беспокойтесь! Будет надо, я его под дулом пистолета приведу.
Пусть Эффи Бряк не блещет умом и тактом, зато решимости ей не занимать.
Номер, в котором меня поселили, больше всего нашего дома в Дистрикте-12. Кругом бархат, как в поезде; а еще здесь столько всяких автоматических штуковин натыкано, что я вряд ли успею все их испробовать. В одном только душе около сотни регуляторов и кнопочек: можно задавать температуру и напор воды, выбирать сорта мыла и шампуней, ароматы и масла, включать массажные губки. Едва ступаешь на коврик, тут же включаются сушилки, обдающие тело теплым воздухом. Я касаюсь ящичка, посылающего импульсы к моей голове, и волосы, моментально распутавшись и высохнув, спадают на плечи ровными, блестящими прядями.
Шкаф по команде выдает нужную одежду. Окна могут увеличивать или уменьшать отдельные части панорамы города. Стоит произнести в микрофон название блюда из гигантского списка, и меньше чем через минуту оно появляется перед тобой, дымящееся и аппетитное. Я хожу по комнате и жую бутерброды из пышного хлеба с гусиной печенью, пока не раздается стук в дверь – Эффи зовет к обеду.
Самое время. Я как раз проголодалась.
Когда я вхожу в столовую, Пит, Цинна и Порция стоят на балконе, выходящем на город. Я рада стилистам, особенно когда узнаю, что к нам присоединится Хеймитч. Если за столом верховодят Эффи и Хеймитч, это катастрофа. К тому же еда сейчас не главное, главное – обсудить нашу будущую стратегию, а Цинна и Порция уже показали себя отменными мастерами.
Молодой человек в белой тунике молча подносит фужеры с вином. Я хотела отказаться, но передумала – вдруг больше не придется попробовать? Раньше я пила только мамино вино от кашля. Делаю глоток терпкой, кисловатой жидкости и втайне думаю, что от пары ложек меда она стала бы получше.
Хеймитч появляется, когда подают первое блюдо. Он такой чистый и ухоженный, что кажется, с ним тоже поработал стилист. А еще он трезв как стеклышко. Никогда не видела его таким. Хеймитч выпивает предложенное вино и принимается за еду. Раньше он только пил, впервые вижу, как он ест. Может, он и в самом деле сдержит свое обещание?
Цинна и Порция, похоже, благоприятно влияют на наших кураторов. Во всяком случае, они вежливы друг с другом. И наперебой поздравляют стилистов с успешным стартом. Пока идет светская беседа, я сосредотачиваюсь на еде. Грибной суп, зелень с крохотными помидорчиками, жареное мясо с кровью, нарезанное тонюсенькими лепестками, макароны в зеленом соусе, нежный сыр, подаваемый со сладким черным виноградом. Официанты – молодые люди в белых туниках – безмолвно снуют вокруг стола, наполняя бокалы и меняя блюда.
Когда мой бокал с вином наполовину пустеет, я чувствую легкое головокружение и перехожу на воду. Это состояние мне совсем не нравится, надеюсь, оно скоро пройдет. Как только Хеймитч выдерживает так целыми днями?
Я пытаюсь вникнуть в разговор – он как раз коснулся наших костюмов для интервью, – но тут официантка ставит на стол роскошный торт и ловко поджигает его. На мгновение он ярко вспыхивает, языки пламени плещутся по краям и гаснут.
– Ничего себе! Это спирт? – спрашиваю я, поднимая глаза на девушку. – Сейчас мне как-то не до… О, я тебя знаю!
Не помню, где и когда я ее видела. Но видела точно. Темно-рыжие волосы, яркие черты лица, белая как фарфор кожа. Еще не договорив, я чувствую, как все сжалось у меня внутри от вины и страха. С ней связано что-то нехорошее, только я никак не могу вспомнить что. Лицо девушки искажается от ужаса, отчего мне еще больше станови
Страница 22
ся не по себе. Она отрицательно качает головой и убегает.Я поворачиваюсь к столу и вижу, что взрослые смотрят на меня, широко раскрыв глаза.
– Не мели чепуху, Китнисс. Откуда ты можешь знать безгласую? – резко говорит Эффи. – Как тебе такое взбрело в голову?
– Что значит «безгласая»? – ошарашенно спрашиваю я.
– Преступница. Ей отрезали язык в наказание, – поясняет Хеймитч. – Скорее всего, за измену. Ты не можешь ее знать.
– А если бы и знала, не должна обращаться к ней иначе как с приказом, – добавляет Эффи. – Разумеется, ты ее не знаешь.
Дело в том, что они ошибаются. Теперь, когда Хеймитч произнес слово «измена», я вспомнила. Признаваться в этом, конечно, нельзя, да я и не собираюсь.
– Да-да, я, наверное, обозналась. Просто… – бормочу я, не зная, как выкрутиться. Видно, от вина туго соображать стала.
Пит щелкает пальцами.
– Делли Картрайт. Вот на кого она похожа! Точная копия.
Делли Картрайт, толстушка с бледным лицом и светлыми волосами, похожа на нашу официантку не больше, чем улитка на бабочку. А еще Делли самая приветливая девочка в школе, она всех встречает улыбкой, даже меня. Как улыбается та темноволосая девушка, я никогда не видела… Я с радостью хватаюсь за спасительную соломинку, брошенную Питом:
– Да, правда. С ней я и спутала. Наверное, из-за волос.
– И глаза похожи, – поддерживает Пит.
Атмосфера за столом разряжается.
– Вот и ладно. Разобрались, – говорит Цинна. – Да, это был спирт, но он весь сгорел. Я специально заказал такой торт в честь вашего огненного дебюта.
Покончив с обедом, мы идем в гостиную смотреть повтор церемонии открытия. Несколько пар выглядят неплохо, хотя до нас им далеко. Мы сами ахаем, когда видим себя выезжающими из ворот.
– Кто подал идею держаться за руки? – интересуется Хеймитч.
– Цинна, – отвечает Порция.
– Здорово придумано. Есть что-то бунтарское, но в меру.
Бунтарское? Мне это не приходило в голову. Потом я вспоминаю других трибутов, как они стояли каждый сам по себе, не касаясь и не желая замечать друг друга, будто Игры уже начались, и понимаю, что хотел сказать Хеймитч. Наши дружески соединенные руки выделяли нас не меньше чем горящие одежды.
– Завтра утром первая тренировка. Встретимся за завтраком, и я вам скажу, как действовать дальше, – обращается Хеймитч к Питу и мне. – Теперь поспите немного, пока взрослые разговаривают.
Мы идем к своим комнатам. Когда подходим к моей двери, Пит прислоняется к косяку, задерживая меня.
– Значит, у Делли Картрайт объявился двойник?
Он ждет объяснений, и я почти готова их дать. Мы оба понимаем, что он меня прикрыл. И вот я снова в должниках. Если я расскажу правду о той девушке, то, возможно, мы станем квиты. Да и чем мне это повредит? Ну выдаст он меня, так что с того? Я всего лишь свидетель. К тому же про Делли Картрайт придумал сам Пит.
Если подумать, мне самой хочется поговорить с кем-то об этой истории. С кем-то, кто сможет меня понять. Больше всего подошел бы Гейл, но увижу ли я его еще? Вряд ли мои откровения дадут Питу какое-то преимущество. Напротив, он решит, что я ему полностью доверяю и считаю своим другом.
Кроме того, мне стало жутко. Девушка с отрезанным языком вернула меня к действительности. Я здесь не для того, чтобы красоваться в шикарной одежде и набивать живот деликатесами, а для того, чтобы умереть кровавой смертью под гиканье зрителей, приветствующих моего убийцу.
Рассказать или нет? Голова все еще затуманена вином. Я таращусь в пустой коридор, как будто надеюсь найти там ответ.
Пит видит мое замешательство.
– Ты не была на крыше?
Я качаю головой.
– Цинна меня водил. Оттуда виден почти весь город. Правда, шумновато из-за ветра.
Наверное, намекает, что там нас никто не подслушает. У меня тоже такое чувство, будто за нами следят.
– Туда можно вот так запросто подняться? – спрашиваю я.
– Конечно. Пойдем.
Я иду за Питом по лестнице, ведущей на крышу. Мы оказываемся в маленькой куполообразной комнатке, откуда есть выход наружу. Когда мы ступаем в вечернюю прохладу, у меня захватывает дух. Капитолий светится огнями, как огромное поле светлячков. В Дистрикте-12 вечера частенько приходится проводить со свечкой, электричество бывает редко. Наверняка, только если по телевизору показывают Игры или какое-нибудь важное правительственное заявление. Но тут не экономят. Ни на чем.
Мы подходим к ограждению у края крыши. Я смотрю вниз на улицу, кишащую людьми. Гудят машины, что-то звякает, иногда доносится чей-нибудь голос. В Дистрикте-12 в это время уже все спят.
– Я спрашивал Цинну, почему нас сюда пускают. Кому-то из трибутов может прийти в голову броситься вниз.
– И что он ответил?
– Что не выйдет. – Пит вытягивает руку за перила, раздается сухой треск, и руку отбрасывает назад. – Здесь какое-то электрическое поле. Оно швыряет тебя обратно на крышу.
– Как о нас заботятся! – говорю я. Хотя Цинна сам приводил сюда Пита, я не уверена, можно ли нам находиться здесь одним так поздно. Никогда не видела трибут
Страница 23
в на крыше Тренировочного центра. Из чего вовсе не следует, что тут нет камер. – Думаешь, за нами наблюдают?– Возможно, – признает Пит. – Давай посмотрим сад.
С другой стороны купола разбиты клумбы с цветами, и растут деревья в кадках. С веток свисают сотни музыкальных подвесок. Вот откуда раздавался звон. При таком ветре нас точно не услышат. Пит смотрит на меня вопросительно. Я притворяюсь, что разглядываю цветок.
– Однажды, когда мы охотились в лесу и сидели в засаде, – начинаю я шепотом.
– Ты с отцом? – шепчет Пит.
– Нет, с моим другом Гейлом. Вдруг все птицы разом умолкли. Кроме одной, которая будто предупреждала нас о чем-то. И тут я увидела девушку. Это точно та девушка. С ней был парень. У обоих одежда изодрана в клочья, черные круги под глазами. Они бежали так, словно от этого зависела их жизнь.
На минуту я замолчала, вспомнив, как вид этой странной пары, явно не из нашего дистрикта, заставил нас замереть. Позже я часто спрашивала себя, могли ли мы им помочь. Наверное. Могли спрятать их. Если бы действовали быстро. Да, нас с Гейлом застигли врасплох, но мы ведь охотники и знаем, как выглядит загнанная дичь. Мы с первого взгляда поняли, что эти молодые люди в опасности. Тем не менее мы только смотрели.
– Потом, словно ниоткуда, появился планолет, – продолжаю я. – Только что небо было чистым, и вот он уже над ними. Он летел почти бесшумно, но они его заметили. На девушку сбросили сеть и, подхватив, утащили вверх. Быстро, как на лифте. Парню повезло меньше. Его пронзили копьем, привязанным к тросу, и тоже подняли в планолет. Мы услышали, как кричит девушка. Какое-то имя. Наверное, того парня. Планолет исчез. Просто растворился в воздухе. И птицы стали петь снова, будто ничего не случилось.
– Они вас видели? – спросил Пит.
– Не знаю. Мы сидели под выступом скалы, – отвечаю я.
Я лукавлю. Как раз после птичьего крика, когда еще не появился планолет, глаза девушки на мгновение встретились с моими, и в них была мольба. Но ни я, ни Гейл даже пальцем не пошевелили, чтобы ей помочь.
– Ты вся дрожишь, – говорит Пит.
Я и правда заледенела. Ветер обдает меня холодом снаружи, а воспоминания – изнутри. Крик девушки и сейчас звучит у меня в ушах. Возможно, то имя было последним словом, какое она произнесла.
Пит снимает пиджак и набрасывает мне на плечи. Я хотела отстраниться, а потом решила: почему бы и нет? Пусть думает, что я все принимаю за чистую монету.
– Они отсюда? – спрашивает Пит, застегивая пиджак у меня под подбородком.
Я киваю. В них точно было что-то капитолийское.
– Как думаешь, куда они направлялись?
– Не знаю, – признаюсь я. Дистрикт-12 и так на отшибе. Дальше – сплошь лес, дикие места, если не считать источающих яд развалин, что остались от Дистрикта-13 после химических атак. Иногда их показывают по телевизору, чтобы мы не забывали. – Не представляю, почему они убежали отсюда.
Хеймитч сказал, что безгласые наказаны за измену. Измену чему? Получается, Капитолию… Тут ведь есть все, что душе угодно. Живи и радуйся. Против чего бунтовать?
– Я бы отсюда тоже убежал, – выпаливает Пит и нервно оглядывается вокруг. Он произнес это так громко, что даже музыкальные подвески не смогли заглушить. – Я бы тут же убежал домой, если бы мне только позволили. Хотя надо признать, кормят здесь отменно, – смеется он.
Снова выкрутился. Теперь тот возглас – обычная реплика испуганного трибута, а вовсе не сомнение в безупречности Капитолия.
– Похолодало. Может, войдем внутрь? – предлагает Пит, и когда мы заходим под теплый, залитый светом купол, непринужденно продолжает разговор: – Твой друг Гейл это тот самый парень, который забрал от тебя сестру на Жатве?
– Да. Ты его знаешь?
– Не так чтобы… Слышал, как девчонки по нему вздыхали. Я думал, он твой двоюродный брат или вроде того. Вы очень похожи.
– Нет, мы не родственники.
Пит кивает с тем же непроницаемым видом.
– Приходил с тобой попрощаться? – спрашивает он опять.
– Приходил, – отвечаю я и внимательно смотрю ему в лицо. – А еще твой отец приходил. С печеньем.
Пит поднимает брови, будто впервые слышит. Ну врать-то и притворяться он мастер. Видела сегодня.
– Правда? Вообще-то он всегда вас любил, тебя и твою сестру. Наверное, он предпочел бы иметь дочь вместо своры мальчишек.
Мысль о том, что в доме Пита когда-то заходила речь обо мне, за столом, а может, у пекарской печи, совершенно меня огорошила. Во всяком случае, это явно случалось не при матери.
– В детстве он был знаком с твоей мамой.
Вот так раз! Еще одна новость. Похоже на правду.
– А… да. Она выросла в городе, – отвечаю я.
Не могу же я сказать, что мама никогда не упоминала об отце Пита иначе как о пекаре, когда хвалила его хлеб.
Мы подходим к моей двери, и я возвращаю Питу пиджак.
– Пока. Утром увидимся.
– До завтра, – отвечает он и идет дальше по коридору.
Когда я открываю дверь, рыжеволосая девушка подбирает с пола мои ботинки и трико, где я их бросила перед душем. Я хочу извиниться за то, что, в
Страница 24
зможно, навлекла на нее неприятности, потом вспоминаю, что могу обращаться к ней только с приказом.– О, прости, – говорю я. – Их следовало отнести Цинне. Прошу прощения, ты не могла бы сделать это за меня?
Избегая моего взгляда, девушка коротко кивает и направляется к двери.
Я старалась, чтобы в моих словах прозвучало сожаление о том, как глупо повела себя во время обеда, но понимаю, что сожалею о гораздо большем. Мне стыдно, что я даже не пыталась помочь ей в лесу, позволив Капитолию искалечить ее и убить парня.
Точно смотрела Игры по телевизору.
Я сбрасываю туфли и забираюсь в кровать прямо в одежде. Дрожь не проходит. Возможно, она меня и не помнит. Нет, зачем себя обманывать. Нельзя забыть того, кто был твоей последней надеждой. Я натягиваю одеяло на голову, надеясь спрятаться от взгляда рыжеволосой немой девушки, взгляда, проникающего сквозь двери и стены.
Будет ли она рада видеть, как я умираю?
6
Всю ночь меня преследуют кошмары. Рыжеволосая девушка, кровавые эпизоды прошлых Голодных игр, отрешенная и чужая мама, худенькая, испуганная Прим, отец… Я вскакиваю с криком: «Спасайся!», когда шахта взрывается миллионом ярких осколков.
В окна пробиваются первые утренние лучи. Под завесой клубящегося тумана Капитолий выглядит жутко. У меня болит голова. Во рту привкус крови, видно, во сне прикусила щеку.
Я сползаю с кровати и тащусь в душ. Наугад тыкаю кнопки на панели и прыгаю под струями воды, то ледяными, то обжигающими. Потом меня облепляет лимонная пена, которую приходится соскребать жесткой щеткой. Ну и ладно, зато взбодрилась.
Обсохнув и обтершись лосьоном, беру одежду, оставленную мне перед шкафом: черные узкие брюки, бордовую тунику с длинными рукавами, кожаные туфли. Заплетаю косу. Первый раз после Жатвы я выгляжу собой. Никаких изысканных причесок и платьев, никаких огненных накидок. Такая как есть. Как будто собралась в лес. Это меня успокаивает.
Хеймитч не уточнил, во сколько именно мы встретимся за завтраком, утром тоже никто не приходил, однако я голодна и потому решаю пойти в столовую без приглашения. Еда, должно быть, уже готова. Надежды меня не обманули. Стол еще не накрыт, но на стойке у стены не меньше двадцати кушаний. Рядом, вытянувшись в струнку, стоит безгласый официант. Он утвердительно кивает на вопрос, можно ли мне самой взять себе еды. Я накладываю на большое блюдо яйца, сосиски, оладьи с апельсиновым вареньем, ломтики красного арбуза. Ем все это, глядя, как над Капитолием встает солнце. Потом беру вторую тарелку – горячую кашу с тушеной говядиной. И наконец наслаждаюсь десертом: беру гору булочек, ломаю их кусочками и ем, обмакивая в горячий шоколад, как Пит в поезде.
Мысли уносятся к маме и Прим. Они, должно быть, уже встали. Мама готовит на завтрак кашу-размазню. Прим нужно до школы подоить козу. Всего два утра назад я была дома. Неужели правда? Да, всего два. А теперь дом осиротел. Что подумали они о моем вчерашнем огненном дебюте на Играх? Появилась ли у них надежда или они совсем упали духом, увидев воочию две дюжины трибутов, из которых в живых суждено остаться одному?
Входят Хеймитч и Пит, желают мне доброго утра и садятся есть. Мне не нравится, что Пит одет так же, как и я. Надо поговорить с Цинной. Не будем же мы, в конце концов, изображать близнецов на самих Играх? Наверняка стилисты это понимают. Я вспоминаю, что Хеймитч приказал нам во всем им подчиняться. Будь на месте Цинны кто-то другой, я бы могла ослушаться. Но после вчерашнего триумфа у меня язык не повернется что-то ему возразить.
Я волнуюсь из-за тренировок. Три дня трибуты готовятся все вместе, на четвертый каждый получает возможность продемонстрировать свои умения перед распорядителями Игр. Предстоящая встреча лицом к лицу с другими трибутами вызывает у меня мандраж. Я взяла из корзинки булочку и верчу в руках, аппетит пропал.
Покончив с очередной порцией тушеного мяса, Хеймитч со вздохом отодвигает тарелку, достает из кармана фляжку и делает большой глоток.
– Итак, приступим к делу, – говорит он, облокотившись на стол, – во-первых, как мне вас готовить? Вместе или порознь? Решайте сейчас.
– А зачем порознь? – спрашиваю я.
– Ну, скажем, у тебя есть секретный прием или оружие, и ты не хочешь, чтобы об этом узнали другие.
Я смотрю на Пита.
– У меня секретного оружия нет, – говорит он. – А твое мне известно, верно? Я съел немало подстреленных тобой белок.
Оказывается, Пит ел моих белок. Мне всегда представлялось, как пекарь тихонько уходит и жарит их для себя одного. Не из жадности, просто городские семьи предпочитают дорогое мясо, купленное у мясника, – говядину, конину, курятину.
– Готовь нас вместе, – говорю я Хеймитчу, и Пит согласно кивает.
– Договорились. Теперь мне нужно получить представление о том, что вы умеете.
– Я – ничего, – отвечает Пит. – Разве что хлеб испечь придется.
Конец ознакомительного фрагмента.


