Читать онлайн “Лунный свет” «Майкл Шейбон»
- 01.02
- 0
- 0
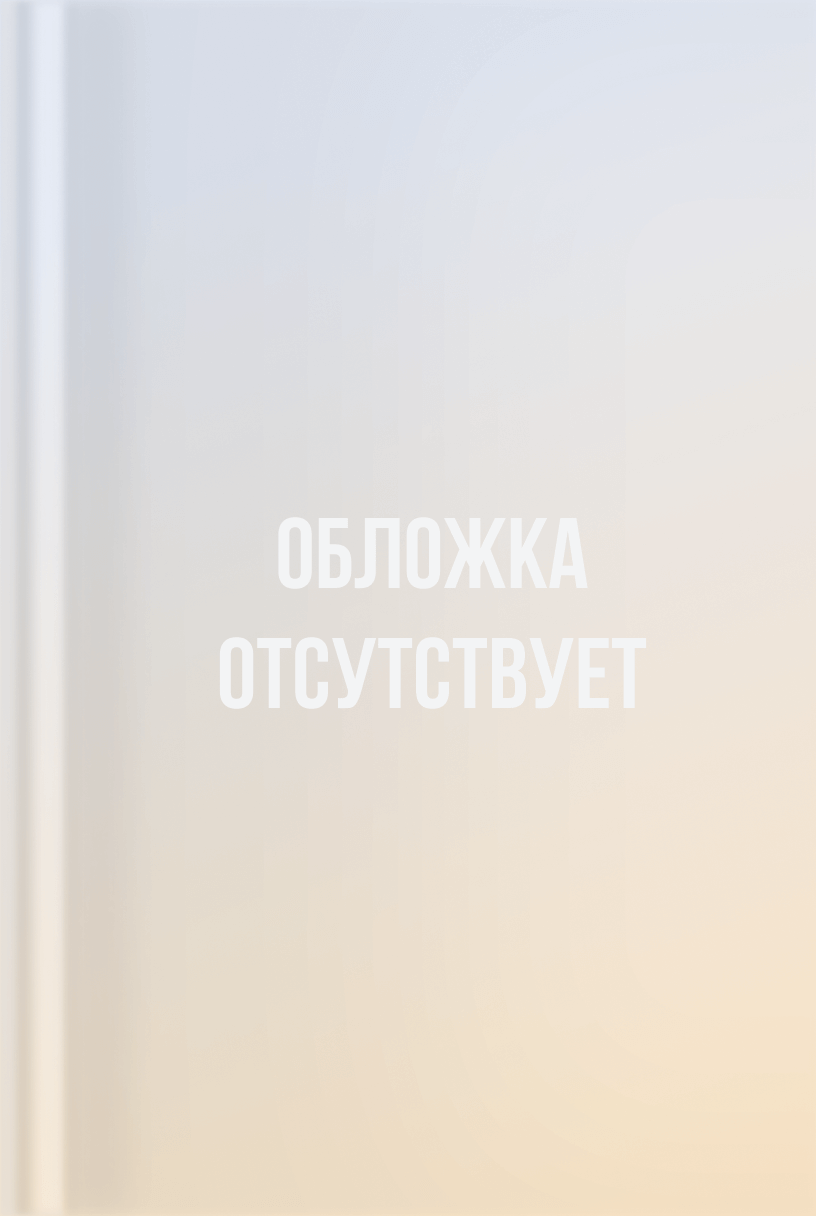
Страница 1
Лунный светМайкл Шейбон
Большой роман
Впервые на русском – новейший роман признанного мастера современной американской прозы, лауреата Пулицеровской премии, автора таких международных бестселлеров, как «Невероятные приключения Кавалера и Клея», «Союз еврейских полисменов», «Питтсбургские тайны», «Вундеркинды» и др. Это роман о правде и лжи, о великой любви, о семейных легендах и о большом экзистенциальном приключении. Герой Шейбона преследует Вернера фон Брауна в последние дни Второй мировой войны и охотится во Флориде на гигантского питона, сожравшего кота у соседки-пенсионерки, минирует мост возле Вашингтона, строит модели ракет и лунного города и прячет от жены, известной телезрителям как Ночная ведьма Невермор, старую колоду Таро…
Майкл Шейбон
Лунный свет
Michael Chabon
MOONGLOW
Copyright © 2016 by Michael Chabon
All rights reserved
© Е. Доброхотова-Майкова, перевод, примечания, 2017
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство ИНОСТРАНКА®
* * *
Шейбон – вероятно, самый демократичный из наших великих писателей со времен Апдайка.
USA Today
Пожалуй, это самая глубокая и трогательная работа прославленного лауреата Пулицеровской премии за всю его карьеру.
Boston Globe
Лихой вымысел, ювелирно маскирующийся под искренний мемуар… Восхитительно.
Newsday
Кто, кроме Шейбона, смог бы сплести в настолько блистательное целое магию и ракетостроение? Не говоря уж обо всем остальном.
Wall Street Journal
Неимоверно увлекательная история о семейных тайнах, которые чувствуешь, но не видишь – как темное вещество в сердце каждой семьи.
Washington Post
Смелое, мастерски выписанное признание в любви к целому поколению.
New York Review of Books
История безрассудства, смелости и утраты, разворачивающаяся в масштабах всего XX века.
Kansas City Star
Ну почему весь мир не может быть так же наполнен любовью, как «Лунный свет»?
Роберт Кристгау (The Village Voice)
Новейший роман Шейбона подобен слоеному пирогу из семейных легенд и романтически окрашенных воспоминаний. Он отнюдь не лишен структуры, но определяется она скорее логикой памяти, нежеланием спрямлять углы. Траектория повествования ведет сложным зигзагом через пространство и время, от Германии военной поры до современной Америки…
New York Times
Шейбон – прирожденный рассказчик длинных историй, у него дар нагнетать напряжение и разжигать читательский интерес. Очень понятно, почему его самая известная книга «Необыкновенные приключения Кавалера и Клея» – это история о том, как изобретали супергероев для комиксов, ведь его собственные герои всегда наполовину масштабнее обычных людей. Действительно, можно представлять его книги как комиксы в прозе, где очень яркие и живые метафоры выполняют роль линии и цвета. Такие маленькие вспышки словесной магии случаются практически на каждой странице «Лунного света».
Tablet
Имя Шейбон стоит запомнить – во-первых, потому, что у него есть еще несколько (непереведенных) книг, во-вторых, ему всего сорок, так что, может статься, лет через двадцать он будет не апдайк, так сэлинджер.
Лев Данилкин (Афиша, 2005)
Его романы – это взрывная смесь из всего, что мы любим.
Лиза Биргер (The Village)
Им, серьезно
Посвящается им
На самом деле никакой темной стороны Луны нет. Строго говоря, она вся темная.
Вернер фон Браун
Предисловие автора
В этих мемуарах я следовал фактам, если только факты не вступали в противоречие с моими воспоминаниями, задачей рассказчика или истиной, как я предпочитаю ее понимать. Могу заверить читателей, что, допуская вольности в именах, датах, местах, событиях и разговорах, а также в характерах, мотивах и взаимодействии исторических лиц и родственников, я строго держался принципа ни в чем себе не отказывать.
[1 - «Аэро-би» – американские метеорологические ракеты, разработанные по заказу ВМС США. Усовершенствованная версия «Аэро-би», Aerobee-Hi, предназначенная для исследования верхних слоев атмосферы, выпускалась с 1952 года.]
I
Вот эта история, как я ее слышал. Когда Элджер Хисс вышел из тюрьмы[2 - Когда Элджер Хисс вышел из тюрьмы… – Элджер Хисс (1904–1996) – американский государственный деятель и дипломат. Соратник президента Ф. Д. Рузвельта, участник создания ООН, первый Генеральный секретарь ООН в 1945-м, президент Фонда Карнеги. В 1948 году был обвинен в передаче секретных документов КГБ, и, хотя срок давности по обвинениям в госизмене вышел, в 1950-м его осудили на пять лет за дачу ложных показаний. Из этого срока он отбыл три с половиной года и в 1954-м вышел на свободу.], его никто не брал на работу. Он окончил Гарвардскую юридическую школу, служил секретарем у Оливера Уэнделла Холмса[3 - …служил секретарем у Оливера Уэнделла Холмса… – Оливер Уэнделл Холмс-младший (1841–1935)
Страница 2
американский юрист и правовед, многолетний член Верховного суда США, автор работы «Общее право» и самый часто цитируемый американский юрист.] и участвовал в создании ООН, но притом был разоблаченным агентом мирового коммунизма и отсидел за дачу ложных показаний. Он опубликовал мемуары, такие скучные, что никто их не читал. Жена от него ушла. Он остался без денег и без надежды на будущее. В конце концов кто-то из бывших друзей сжалился и по блату устроил его в компанию, делавшую из струнной проволоки заколки для волос. «Федеркомс инкорпорейтед» поначалу процветала, затем более мощный конкурент стал копировать ее модели, воровать ее торговые марки и сбивать цены. Продажи упали. Лишних мест в штате не было. Чтобы освободить место для Хисса, кого-нибудь надо было уволить.В заметке от 25 мая 1957 года, сообщавшей об аресте моего деда, «Дейли ньюс» со слов неназванного сослуживца охарактеризовала его как «человека тихого и незаметного». Для коллег по отделу продаж в «Федеркомс» он был фетровой шляпой на вешалке в углу – самым работящим и самым никчемным сотрудником отдела. В обеденный перерыв он уединялся со своим сэндвичем и читал «Небо и телескоп» или «Авиационный еженедельник». Про него знали, что он водит «кросли», женат на иностранке, воспитывает дочь-подростка и живет с ними где-то в самой глухой части округа Берген. До ареста дед хоть как-то проявил себя перед сотрудниками лишь дважды. Во время пятой игры международного чемпионата по баскетболу в отделе сломалось радио, и дед его починил: нашел перегоревшую лампу и заменил исправной, которую вытащил из телефонного коммутатора. Другой раз рекламщик фирмы рассказал, что столкнулся с моим дедом в миллбернском театре «Пейпер-Милл», где его жена-иностранка ни много ни мало играла Серафину в «Татуированной розе»[4 - …где его жена-иностранка ни много ни мало играла Серафину в «Татуированной розе». – «Татуированная роза» (1951) – пьеса Теннесси Уильямса.]. Больше о нем ничего не знали, и деда такое положение, видимо, устраивало. Его уже давно не пытались втянуть в разговор. Ему случалось улыбаться, но смеха его никто не слышал. Если у деда были мнения о политике – или вообще какие-либо мнения, – для сотрудников «Федеркомс инкорпорейтед» они оставались тайной. Начальство сочло, что такого работника можно уволить без ущерба для корпоративного духа.
Вскоре после девяти часов утра двадцать четвертого мая директор «Федеркомс» услышал шум в приемной, где сидела смышленая девица, ограждавшая его от кредиторов и налоговых инспекторов. Мужской голос что-то требовал с настойчивостью, быстро перераставшей в гнев. Интерком на директорском столе тренькнул раз-другой. Раздался звон стекла, затем звук, словно телефонную трубку с размаху шваркнули на аппарат. Прежде чем директор успел встать с кресла и выяснить, что происходит, в кабинет вдвинулся мой дед. Он потрясал черной телефонной трубкой (в те времена это было тупое орудие), за которой тянулись три фута оборванного провода.
В конце тридцатых дед в промежутках между обыгрыванием простаков в бильярд проучился четыре года в Дрексельском технологическом, зарабатывая на учебу грузчиком пианино в магазине «Уонамейкер». Плечи у него были в ширину дверного проема. Курчавые волосы, которые он ежедневно приглаживал бриолином, растрепались и стояли копной. Лицо так налилось кровью, что казалось загорелым. «Я ни разу не видел человека в такой ярости, – сообщил „Дейли ньюс“ очевидец. – Мне показалось, от него пахнет дымом».
Директор «Федеркомс» сделал для себя неприятное открытие, что час назад уволил психопата.
– В чем дело? – спросил он.
Вопрос был бессмысленный, и мой дед не удостоил его ответом. Он вообще не любил говорить то, что и так ясно. Вопросы, считал он, чаще всего задают, чтобы заполнить зону молчания, притормозить его, деда, переключить его внимание и энергию. В любом случае он всегда не дружил со своими чувствами. Мой дед ухватил конец провода и дважды обернул вокруг левой руки.
Директор попытался встать, но его ноги застряли под столом. Кресло откатилось назад и упало, дребезжа колесиками. Он завопил. Это был зычный вопль, почти йодль. Когда мой дед навалился на директора, тот вывернулся в сторону окна, выходящего на Восточную Пятьдесят вторую улицу, и успел заметить, что на тротуаре внизу вроде бы собирается толпа.
Дед набросил телефонный провод на горло директора. У него было минуты две до того, как ракета его гнева сожжет свое топливо и начнет спуск к Земле. Нескольких минут вполне бы хватило. Во время Второй мировой войны деда научили пользоваться гарротой[1 - Кусок все той же струнной проволоки, обычно спрятанный в обувном шнурке. (Здесь и далее примеч. авт.)]. Он знал, что задушить, умеючи, можно очень быстро.
– О господи, – выговорила секретарша мисс Мангель, запоздало появляясь на пороге.
Мисс Мангель не растерялась, когда дед ворвался в кабинет; позже она рассказывала, что ей показалось, будто от него пахнет дымом. Она успела дважды нажать кнопку интеркома, прежде чем дед вырвал у
Страница 3
нее трубку. Он схватил интерком и выдернул провод из гнезда.– Вы за это ответите, – сказала мисс Мангель.
Пересказывая эту историю тридцать два года спустя, дед ставил рядом с именем мисс Мангель галочку восхищения, но тогда ракета его гнева была в середине восходящей ветви параболы, и слова секретарши дали ей новый импульс. Дед швырнул интерком в окно. Звук, услышанный директором, издал аппарат, вылетая сквозь стекло на улицу.
Услышав снизу возмущенный крик, мисс Мангель подошла к окну посмотреть. На тротуаре сидел мужчина в сером костюме и смотрел на нее снизу вверх. Левое стекло его круглых очков было залито кровью. Он смеялся[2 - Про человека, которого нечаянно чуть не зашиб (по счастью, аппарат лишь немного задел его голову), мой дед знал только, что тот не стал подавать иск. «Дейли ньюс» разыскала жертву. Это оказался Иржи Носек, глава чехословацкого представительства в международном органе, к созданию которого приложил руку Элджер Хисс. «Впервые высокопоставленного коммунистического деятеля задело пролетающим телефонным аппаратом, – писал корреспондент „Дейли ньюс“ тоном преувеличенной серьезности. – Носек заявил, что, как настоящий чех, должен смеяться над всем, что его не убило».]. Столпившиеся вокруг прохожие предлагали помощь. Вахтер сказал, что сейчас вызовет полицию. Тут-то мисс Мангель и услышала вопли шефа. Она отвернулась от окна и вбежала в кабинет.
На первый взгляд помещение казалось пустым. Затем она услышала скрип обуви по линолеуму – раз, второй. Над столом показался затылок моего деда и снова исчез. Храбрая мисс Мангель обошла стол. Ее начальник лежал ничком. Мой дед сидел у того на спине, подавшись вперед, и душил его импровизированной гарротой. Директор бился и сучил ногами, силясь перевернуться на спину. Мертвую тишину нарушал лишь звук, с которым скребли по линолеуму носки его дорогих кожаных туфель.
Мисс Мангель схватила с директорского стола нож для бумаг и вонзила деду в левое плечо. По оценке деда, высказанной много лет спустя, этот поступок тоже заслуживал галочки.
Нож вошел не больше чем на полдюйма, но резкая боль блокировала какой-то телесный канал гнева. Дед засопел. «Я как будто проснулся», – сказал он, когда первый раз излагал мне эту историю меньше чем за неделю до смерти. Он снял провод с директорской шеи и смотал с руки, на которой остались глубокие борозды. Трубка с грохотом упала на пол. Дед встал, упираясь подошвами в пол по обе стороны от директора, и шагнул вбок. Директор перекатился на спину, сел, затем отполз на заду в промежуток между двумя шкафчиками. Он со всхлипом втянул воздух. В падении он прикусил нижнюю губу, и сейчас зубы у него были розовые от крови.
Мой дед повернулся к мисс Мангель. Вытащил нож для бумаг из плеча и положил на директорский стол. Когда его приступы гнева иссякали, можно было видеть, как к глазам приливает раскаяние.
– Простите меня, – сказал он мисс Мангель и директору.
Думаю, он сказал это также моей матери, которой в то время было четырнадцать, и бабушке, хотя уж ее-то вины тут было не меньше. Возможно, оставалась еще маленькая надежда на прощение, но дед говорил так, будто не ждет его, да, в общем-то, и не хочет.
* * *
Дед умирал от рака костей, и врач для обезболивания прописал ему гидроморфон. Я заглянул попрощаться с дедом примерно в те дни, когда немцы ломали Берлинскую стену, и мягкий молот опиоида как раз пробил брешь в его привычке молчать. На меня полились рассказы о несчастьях, о сомнительном везении, о подвигах и неудачах. Мама устроила его в своей гостевой спальне, и к тому времени, как я добрался до Окленда, ему уже кололи почти двадцать миллиграмм в день. Дед заговорил, не успел я сесть рядом с кроватью. Это выглядело так, будто он меня ждал, но, наверное, он просто чувствовал, что время поджимает.
Воспоминания шли в произвольном порядке, кроме первого, оно же самое раннее.
– Рассказывал ли я тебе, – спросил он, беспечно развалясь на своем паллиативном облаке, – как выбросил котенка в окно?
Я не сказал – ни тогда, ни в последующие дни до того, как дед погрузился в это облако окончательно, – что он вообще почти ничего не говорил мне про свою жизнь. Мне еще только предстояло узнать о нападении на директора «Федеркомс инкорпорейтед», поэтому я не мог заметить в ответ, что в его автобиографии рано наметился мотив дефенестрации. Позже, когда он поведал мне о мисс Мангель, интеркоме и чешском дипломате, я предпочел оставить остроумное замечание при себе.
– Он разбился насмерть? – спросил я.
Я ел из чашки малиновые мармеладные шарики. Дедов желудок ничего не принимал, кроме этих шариков и ложки-двух куриного бульона, который мама готовила ему по рецепту бабушки, родившейся и выросшей во Франции, – по этому рецепту бульон осветляют лимонным соком. Даже на мармеладные шарики деда не очень тянуло, так что их можно было не экономить.
– Это был третий этаж, – сказал дед и добавил так, будто его родной город славится твердостью своих мостовых: – В Филадельфии.
– Сколько тебе
Страница 4
ыло лет?– Три или четыре.
– Господи. Зачем?
Дед высунул язык один раз, второй. Он делал так каждые несколько минут. Часто казалось, будто он высмеивает мои слова, но на самом деле это был побочный эффект лекарства. Язык был бледный, ворсистый. Я знал, что дед может дотянуться его кончиком до носа, – в детстве мне очень нравилось на это смотреть, только он редко соглашался. Небо за окном маминой гостевой спальни было серым, как венчик волос вокруг загорелого дедушкиного лица.
– Любопытство, – заключил он и снова высунул язык.
Я ответил, что, по слухам, любопытство бывает опасным, особенно для кошек.
В детстве мой дед жил с родителями, отцовским отцом и своим младшим братом Рейнардом – дядей Рэем моей матери – в трехкомнатной квартире в доме на углу Третьей улицы и Шанк-стрит в Южной Филадельфии.
Его отец, немецкоговорящий уроженец Пресбурга (ныне Братислава), в двадцатых-тридцатых годах пытался зарабатывать бакалейной торговлей. Прогорев в очередной раз, он понял, что проще стоять за чужим прилавком и смотреть, как грабят чужую кассу, и променял мечту о собственном деле на место продавца в винном магазине. В рассказах деда его мать предстает двужильной и бесконечно доброй, «святой», посвятившей себя рабскому служению мужу и сыновьям. На фотографии это приземистая женщина, затянутая в стальной корсет, обутая в практичные черные туфли, с таким бюстом, что в нем могли бы поместиться турбины. Почти неграмотная, она ежедневно заставляла деда, а позже дядю Рэя читать ей газеты на идише, чтобы быть в курсе всех последних бедствий еврейского народа. Из недельного семейного бюджета прабабушка ухитрялась заныкать доллар-два для пушке[5 - …ухитрялась заныкать доллар-два для пушке. – Пушке (цдоке-пушке, идиш) – копилка для благотворительных пожертвований. Такие копилки, обычно жестянки с прорезью, стояли не только в синагоге, но и в домах; часто опускать в них еженедельное пожертвование поручали детям, чтобы приучить тех к благотворительности.]. Дети, осиротевшие при погромах, получали еду, беженцы – билет на пароход. Целые склоны в Палестине расцветали садами благодаря ее сердобольной расточительности. «Зимой белье замерзало на веревке, – вспоминал мой дед. – Маме приходилось таскать его на руках по лестнице на наш этаж». Дядю Рэя я помню плейбоем в конце шестидесятых: он водил «альфа-ромео-спайдер», носил небесно-голубые водолазки, серый твидовый блейзер и щегольскую повязку на выбитом левом глазу. Иногда, глядя на него, я вспоминал Хью Хефнера, иногда – Моше Даяна[6 - …я вспоминал Хью Хефнера, иногда – Моше Даяна. – Хью Хефнер (р. 1926) – основатель журнала «Плейбой»; Моше Даян (1915–1981) – израильский полководец, министр обороны во время Шестидневной войны. Во время Второй мировой войны из-за ранения потерял глаз и остаток жизни ходил с черной повязкой.]. Впрочем, в детстве Рейнард был прилежным и хилым, а фортели выкидывал как раз мой дед. История с выброшенным в окно котенком была лишь первым звоночком.
Летом он пропадал на улицах: уходил сразу после завтрака и возвращался в темноте, забредал на восток до вонючей реки Делавэр и на юг до верфи. Он видел, как выселенная семья пила чай на тротуаре в окружении кроватей, ламп, патефона и клетки с попугаем. Он развернул газетный пакет на крышке урны и нашел коровий глаз. У него на глазах с терпеливой жестокостью избивали детей и животных. Он видел, как толпа перед негритянской методистской церковью обступила кабриолет «нэш». Оттуда вышла Мариан Андерсон[7 - Оттуда вышла Мариан Андерсон… – Мариан Андерсон (1897–1993) – американская чернокожая певица, исполнявшая классические произведения и спиричуэлс.] и на шесть десятилетий вперед озарила его память полумесяцем своей улыбки.
Филадельфия тех лет была вразброс засеяна Мунблаттами и Нойманами, той родней, что потом собиралась на свадьбах и похоронах маминого и моего детства. Их дома служили деду промежуточными станциями. Пробираясь между ними через итальянские и ирландские кварталы, дед вырабатывал навыки, пригодившиеся потом на войне. Он завел тайные контакты среди итальянских булочников и бакалейщиков: бегал с поручениями или подметал за мелкие монетки, лимонный лед или краюху теплого хлеба. Он изучал нюансы речи и поведения. Чтобы тебя не лупили на христианской улице, надо было изменить походку и смотреть так, будто ты здесь свой. Если это не помогало – или если вы, как мой дед, любили помахать кулаками, – то драться надо было без правил. Даже здоровенные уличные хулиганы орали, как дети, если ткнуть им пальцем в глаз. Нередко на железнодорожной насыпи, за силосными башнями, похожими на женские груди, в ход шли колья, арматура, рогатки и камни. Деду сломали руку и выбили зуб, а уж сколько раз ему накладывали швы – не сосчитать. Как-то в драке на пустыре за сахарным заводом Маккана он с размаху шлепнулся задом на разбитую пивную бутылку. Шестьдесят лет спустя след на левой ягодице был по-прежнему виден всякий раз, как деду подставляли судно: серебристый выпуклый шрам в форме приоткрытых г
Страница 5
б, поцелуй агрессии.Напуганные его отлучками и травмами, родители пытались положить им конец. Были установлены границы и четкие правила; дед их нарушал. Он отказывался сообщать подробности и называть имена, стойко переносил порку, готов был обходиться без того, чего грозили лишить. В конечном счете он вымотал родителей, и они сдались.
– Мальчика, который выбрасывает котят в окно, не исправить, – заметил старый Абрам, дедов дедушка, на пресбургском немецком.
Он восседал в углу гостиной, служившей также столовой, на подушечке от геморроя, обложенный комментариями к Торе. Был один из последних свободных вечеров того лета, и уже почти стемнело.
– Но что, если он потерялся? – в тысячный или миллионный раз спросила моя прабабушка.
– Не потерялся, – сказал дядя Рэй, вынося решение, которое в конечном счете возобладало в семейном талмуде. – Он знает, где находится.
Он лежал под товарным составом, под одним из шести деревянных вагонов в дальней части железнодорожного отстойника у реки. Последний раз эти вагоны перебрасывали агентов Болдуина-Фелтса на войну за шахты Пейнт-Крик[8 - …перебрасывали агентов Болдуина-Фелтса на войну за шахты Пейнт-Крик. – Война за шахты на реках Пейнт-Крик и Кэбин-Крик – столкновения между бастующими шахтерами и владельцами угольных шахт в Западной Виргинии, продолжавшиеся с апреля 1912 до июня 1913 года. В мае для подавления забастовки владельцы шахт наняли три сотни охранников из детективного агентства Болдуина-Фелтса, до того занимавшегося главным образом охраной поездов от грабителей; в июле три тысячи вооруженных шахтеров объявили войну губернатору штата, после чего против них выслали правительственные войска. Всего в столкновениях были убиты по меньшей мере пятьдесят человек, не считая умерших от голода.]. Теперь они стояли в тупике у земляного вала, заплетенные цветущими лианами.
Он прятался от сторожа по фамилии Кризи, здоровенного бугая с бельмом на левом глазу и пятнами рыжих волос на участках лица, где волос быть не должно. Этим летом Кризи уже несколько раз колотил моего деда. Первый раз он заломил ему руку так, что хрустнули кости. Второй раз протащил деда за ухо до главных ворот, где хорошенько пнул кованым башмаком; дед утверждал, что на мочке до сих пор сохранился отпечаток пальца. Третий раз, поймав моего деда среди поездов, Кризи выпорол его форменным кожаным ремнем, и теперь дед собирался лежать под вагоном, пока Кризи не уйдет или не сдохнет.
Кризи, куря, прохаживался по сорной траве между тупиком и другими путями. Дед, лежа на животе, смотрел на ботинки сторожа через сетку одуванчиков и лисохвоста. Хруп, стоп, поворот. Каждые несколько минут на гравий падал окурок и принимал смерть под правым ботинком Кризи. Дед слышал звук свинчиваемой крышки, бульканье, отрыжку. Впечатление было, что Кризи кого-то ждет, убивает время, может, собирается с духом.
Дед гадал, к чему бы это. Кризи должен был обходить пути, выслеживать бродяг и воришек, вроде моего деда, которые стеклись тем летом на Гринвичскую станцию, привлеченные слухами о просыпанном из вагонов дармовом угле. Первый раз Кризи поймал моего деда, потому что тому мешали бежать двадцать пять фунтов угля в мешке из-под сахара. Почему сторож отлынивает от работы, за которую Пенсильванская железнодорожная компания платит ему деньги? В вагоне у деда над головой копошились в гнездах мелкие зверьки, собираясь на ночной промысел. Из преподанных матерью уроков естествознания дед знал, что промысел у этих зверьков – кусать мальчиков и заражать их бешенством.
Наконец Кризи раздавил пятый окурок, снова отхлебнул из фляжки и пошел прочь. Дед сосчитал до тридцати, потом вылез из-под вагона. Отряхивая с рубашки колкий гравий, он огляделся, высматривая Кризи. Тот, с рюкзаком за спиной, шагал к белому домику. Таких домиков между путями было несколько, и дед, впервые пробравшись на Гринвичскую станцию, поначалу зачарованно воображал, что железнодорожники живут, как пастухи, при стаде поездов. Однако вскоре он узнал, что лачужки не жилые. У них была сетка на замазанных черной краской окнах, а приложив ухо к двери, можно было слышать, как внутри гудит электричество и что-то временами щелкает, как механизм банковского сейфа. Дед ни разу не видел, чтобы кто-нибудь выходил из такого дома или входил в него.
Кризи вытащил из кармана связку ключей и вошел внутрь. Дверь мягко затворилась.
Дед знал, что надо бежать домой, где ждут горячий ужин и оперетта упреков. Он хотел есть и умел пропускать крики мимо ушей. Но он пришел сюда сегодня постоять на одном сигнальном мостике, который считал своим, и проститься с очередным летом.
Он пересек отстойный парк и вдоль насыпи прокрался к «своему» мостику. Вскарабкался по служебной лестнице и по стальным балкам долез до середины платформы в пятнадцати футах над путями. Выпрямился, держась за центральный фонарь, просунул носки парусиновых туфель между балками, отпустил фонарь и остался стоять, раскинув руки, над вращающейся Землей. Между ним и многоквартирным домом на
Страница 6
анк-стрит жил железнодорожный узел, сортируя и тасуя составы на Питсбург, Нью-Йорк, Сент-Луис. Поезда грохотали и лязгали, прокладывая борозды в сумерках.Дед повернулся к востоку. Над Нью-Джерси, словно гроза, собиралась ночная тьма. За рекой лежал Кемпден, за Кемпденом – побережье, за побережьем – Атлантический океан, а за ним – Франция и Париж. Мамин брат, ветеран Аргоннского наступления[9 - …ветеран Аргоннского наступления… – Аргоннское наступление (конец сентября – первая половина октября 1918 года) – крупное наступление войск Антанты на позиции немецких войск во время Первой мировой войны.], говорил деду, что в парижских борделях мужчина может пересечь последний рубеж, где шелковый чулок встречается с белой кожей. Мой дед обнял сигнальный фонарь, прижался животом к гладкому кожуху и посмотрел в вечернее небо. Вставала полная Луна, окрашенная земной атмосферой в цвет персиковой мякоти. Почти весь этот день, последнюю пятницу лета, мой дед читал «Поразительные истории сверхнауки»[10 - «Поразительные истории сверхнауки» («Astounding Stories of Super-Science») – влиятельный американский научно-фантастический журнал, в котором в разное время печатались практически все видные фантасты. Начал выходить в 1930-м, позже название сократилось до «Astounding Stories», а в 1960-х сменилось на «Analog Science Fact – Fiction», в обиходе просто «Аналог».], найденные среди других непроданных журналов в подсобке отцовского магазинчика. Последний рассказ был про отважного землянина, который прилетел в атомной ракете на темную сторону Луны, где нашел вдоволь воды и воздуха. Он сражался с кровожадными селенитами и влюбился в бледную лунную принцессу, которая ответила ему взаимностью. Луна была полна опасностями, и принцессу то и дело приходилось от них спасать.
Дед смотрел на Луну, думал про прекрасную героиню, с ее «грациозным, плавно извивающимся телом», и чувствовал, что внутренний прилив возносит его к ней, словно вихрь – Еноха. Он поднимался в небо на волне желания. Он будет с нею, придет ей на выручку.
Хлопнула дверь. Кризи вышел из домика, уже без рюкзака. Деревянной походкой он перешел рельсы и продолжил обход.
Мой дед спустился с моста. Ему было не по пути мимо белого домика, но старый Абрам верно изрек из своего уголка гостиной: мальчишку, который выбросил котенка из окна на филадельфийскую мостовую с единственной целью узнать, что из этого выйдет, уже не исправишь.
Дед подошел к домику и минуту стоял, глядя на черные зарешеченные окна, затем приложил ухо к двери. В гудении электричества он различил человеческие звуки: не то кашель, не то смех, не то рыдания.
Он постучал. Звуки смолкли. Щелкнул загадочный сейфовый механизм. От сортировочной долетел гудок паровоза, готового тянуть длинный состав на запад. Дед снова постучал.
– Кто там?
Дедушка назвал имя и фамилию, немного подумал и добавил адрес. За дверью раздались звуки – на сей раз несомненный приступ кашля, – потом кто-то завозился, скрипнула кровать или стул.
Выглянула девушка, пряча правую сторону лица за дверью, которую держала двумя руками, чтобы в случае чего захлопнуть. Видимую половину головы венчала копна спутанных обесцвеченных волос. У левого глаза, под тонкой бровью, налипли комочки туши и теней. На левой руке ногти были длинные, покрашенные вишневым лаком, на правой – обкусанные и без лака. Девушка была в мужском клетчатом халате не по размеру. Если она удивилась появлению моего деда, то никак этого не показала. Если плакала, то уже успокоилась. Однако мой дед знал Кризи, как знаешь человека, который тебя бил. Как именно тот обидел девушку, дед не ведал, но это лишь подхлестывало его возмущение. Он видел подлость Кризи в размазанной туши, чувствовал в запахе жавелевой воды[11 - …чувствовал в запахе жавелевой воды… – Жавелевая вода – отбеливатель, по составу близкий к хлорке.] и подмышек из приоткрытой двери.
– Да? – сказала девушка. – Говори, зачем пришел, Шанк-стрит.
– Я видел, как он отсюда выходил. Этот говнюк Кризи.
Такое слово нельзя было произносить при взрослых, особенно при женщинах, но сейчас оно казалось уместным. Лицо девушки выглянуло из-за двери, как Луна из-за фабричной стены. Она внимательнее посмотрела на моего деда:
– Он говнюк, да. Тут ты прав.
С правой стороны волосы у нее были острижены почти под ноль, как будто на этой половине выводили вшей. Над правой половиной губы чернели усики. Правый глаз под невыщипанной густой бровью был не накрашен. Если не считать щетины на обеих щеках, мужское и женское присутствовало на лице поровну. Дед слышал о цирковых гермафродитах, женщинах-кошках и женщинах-обезьянах, о четвероногих женщинах, на которых влезают, как на стол, но не верил этим рассказам. Он поверил бы в них сейчас, если бы под халатом не вырисовывались вполне симметричные женские округлости.
– Просмотр пять центов, – объявила девушка. – С тебя десять.
Дед уставился на свои парусиновые туфли, которые, в общем-то, не стоили того, чтобы их разглядывать.
– Идем, – сказал он, беря е
Страница 7
за локоть.Даже сквозь фланелевый рукав чувствовалось, что она горит.
Девушка выдернула руку.
– Он еще не скоро пойдет через эту часть станции. Но уходить надо сейчас, – сказал дед.
У его теток тоже были усики – делов-то. Его привела сюда сила загаданного желания.
– Смешной, – ответила девушка. Она высунулась в дверь, покрутила головой вправо-влево. Заговорщицки понизила голос. – Спасать меня собрался.
У нее это прозвучало так, будто дед сморозил какую-то несусветную глупость.
Оставив дверь открытой, девушка вернулась в дом, села на койку и укрылась жестким одеялом. Свеча, прилепленная к перевернутой консервной крышке, освещала ряды черных тумблеров и поблескивающие датчики. Рюкзак Кризи валялся на полу.
– Приведешь меня домой к мамочке и папочке? – противным голосом спросила девушка. – Туберкулезную шлюху в ломке?
– Я могу отвести тебя в больницу.
– Смешной, – ответила она уже чуть нежнее. – Милый, ты уже видел, что я могу открыть дверь изнутри. Меня тут не силой держат.
Дед чувствовал, что ее держит что-то другое, не замок, но не знал, как выразить свою мысль. Девушка потянулась к рюкзаку, вытащила пачку сигарет «Олд голд», чиркнула спичкой и затянулась с такой важной манерностью, что дед внезапно понял: она младше, чем показалось в первую минуту.
– Твой приятель Кризи меня уже спас, – сказала она. – Мог бы оставить лежать, где нашел, полумертвую, мордой в груде угля. Прямо там, где Илинги меня вышвырнули.
Девушка рассказала, что с одиннадцати лет путешествовала в составе цирка братьев Энтуистл-Илинг из города Перу, штат Индиана[12 - …в составе цирка братьев Энтуистл-Илинг из города Перу, штат Индиана. – Этот цирк упоминается в рассказе Шейбона «Бог темного смеха» (2001, русский перевод В. Бабкова).]. Она родилась девочкой в Окале, штат Флорида, но в период созревания природа добавила ей усы и пушок на щеках.
– Поначалу я имела большой успех, но дальше у меня росло все только по девочкинской части. – Она скрестила руки под грудью. – Тело вечно мне подгаживает.
Дед хотел сказать, что у него то же самое с мозгом, который заносит его то в дурацкий идеализм, то в приступы неконтролируемой агрессии, но подумал, что неправильно сравнивать свои беды и ее.
– Наверное, оттого я и стала ширяться. Гермафродит – это что-то. Немножко поэтично. А в бородатой бабе ничего поэтичного нет.
Она была в отключке, продолжала девушка, когда хозяева цирка решили наконец вышвырнуть ее из вагона, который как раз тронулся в сторону Алтуны.
– Кризи нашел мой чемодан, где эти ублюдки его кинули. Отвел меня в этот комфортабельный отель. – Подправляя одеяло, она поймала моего деда на попытке заглянуть в тень между ее ногами. – Кризи говнюк, не поспоришь. Но он приносит мне еду, курево и журналы. И свечи, чтобы читать. Дури не приносит, это да, хотя мне уже скоро будет без разницы. И не берет с меня за жилье больше, чем я готова платить.
Дед созерцал дымящиеся руины своего плана. Насколько он понял, девушка сказала ему, что скоро умрет, и собирается сделать это здесь, в комнатенке, смутно освещенной огарком. Кровь из ее легких была на мятом куске бурой ветоши, на шерстяном одеяле, на лацканах халата.
– У Кризи есть свои плюсы. И я уверена, жители Шанк-стрит были бы счастливы узнать, что он любезно оставил меня девушкой. В техническом смысле. – Она для иллюстрации заерзала по койке. – Железнодорожники. Практические люди. Всегда найдут обходной путь.
От движения она закашлялась снова, прижимая ко рту ветошь. Все тело содрогалось, одеяло соскользнуло, оставив ноги на обозрение моему деду. Ему было очень жалко девушку, но он не мог отвести взгляд от темноты под халатом. Приступ прошел. Девушка завернула окровавленную половину ветоши в относительно чистую.
– Смотри на здоровье, Шанк-стрит. – Она задрала халат, заголив ноги, и широко их раздвинула. Светлая полоска живота, темный курчавый мех, розовые половые губы сохранились в его памяти, реяли, как флаг, до самой смерти. – За счет заведения.
Жаркая кровь прихлынула к лицу, к горлу, к ребрам, к паху. Дед видел, что девушке нравится его смущение. Она чуть приподняла бедра:
– Давай, милый. Можешь потрогать ее, если хочешь.
Дед понял, что язык у него не ворочается. Он молча подошел, положил руку на темную шерстку и замер, щупая ее негнущимися пальцами, как если бы проверял температуру или пульс. Ночь, лето, все время и вся история остановились.
Она резко открыла глаза и оттолкнула деда, зажимая рот правой рукой. Левая, та, что с накрашенными ногтями, пыталась нащупать тряпку. Дед вытащил из заднего кармана обрезанных вельветовых штанов крахмальный белый платок, который мать давала ему, каждый день свежий, прежде чем отпустить сына в большой мир. Девушка смяла платок в кулаке, словно и не заметив, что он там оказался. Дед смотрел, как ее тело рвется изнутри на куски. Это продолжалось очень долго, и он испугался, что она умрет прямо сейчас, у него на глазах. Наконец она вздохнула и упала на койку. Ее лоб блестел в свете
Страница 8
огарка. Она дышала осторожно. Глаза были полуоткрыты и устремлены на моего деда, но прошло несколько минут, прежде чем девушка снова его заметила.– Иди домой, – сказала она.
Дед высвободил из ее кулака незапятнанный носовой платок, развернул, как карту, и положил ей на лоб. Запахнул полы халата и натянул кошмарное одеяло под самый подбородок с детской ямочкой. Затем пошел к двери, но на пороге обернулся. Ее жар пристал к пальцам, как запах.
– Заглядывай как-нибудь, Шанк-стрит, – сказала девушка. – Может, я еще позволю тебе меня спасти.
Домой дед попал уже глубокой ночью. На кухне сидел патрульный. Дед ни в чем не сознался и ничего не рассказал. Мой прадед, подзуживаемый копом, отвесил деду затрещину и спросил, как тому это нравится. Дед ответил, что нравится. Он считал, что заслужил побои тем, что не спас девушку. Он даже думал сказать о ней полицейскому, но она сама призналась, что наркоманка и шлюха, а дед бы скорее умер, чем ее заложил. Получалось, что ни делай, все равно ее предашь. В конечном счете он поступил сообразно своей натуре: промолчал.
Полицейский ушел. Деда долго ругали, потом отправили спать без ужина. Он выдержал нотации, угрозы и крики с обычным стоицизмом и хранил тайну двухполовинчатой девушки почти шестьдесят лет. Со следующего дня его заставили работать в лавке: утром и вечером после школы, в воскресенье – полный день, так что на Гринвичскую станцию он попал лишь в следующую субботу после синагоги. Уже темнело, с пятницы шел дождь. В лужах между шпалами серебрилось отраженное небо. Дед стучал в дверь беленого домика, пока рука не заныла от боли.
Я приобщился к своей доле семейных тайн в конце шестидесятых во Флашинге, районе нью-йоркского Квинса. Дед с бабушкой жили тогда в Бронксе, и, если родителям требовалось сбыть меня с рук больше чем на несколько часов, меня отвозили в Ривердейл. Как и космическая программа, дедов бизнес был в то время на пике, и, хотя позже дедушка сделался заметной фигурой в моей жизни, в моих воспоминаниях о той поре он почти всегда на работе.
Дед и бабушка со своим марсианским зоопарком датской мебели размещались в семи комнатах жилого комплекса «Скайвью» над Гудзоном. Жили они на тринадцатом этаже, который назывался четырнадцатым, поскольку, как объяснил дед, в мире полно дураков, верящих в приметы. Бабушка презрительно фыркала. Не то чтобы она особенно боялась числа тринадцать, просто знала, что беду не отведешь такими убогими ухищрениями.
Оставшись одни, мы с бабушкой иногда ходили в кино на тогдашние леденцовые эпопеи: «Доктор Дулиттл», «Гномобиль», «Пиф-паф ой-ой-ой»[13 - …мы с бабушкой иногда ходили в кино на тогдашние леденцовые эпопеи: «Доктор Дулиттл», «Гномобиль», «Пиф-паф ой-ой-ой». – «Доктор Дулиттл» (Doctor Dolittle, 1967) – американский музыкальный фильм по книгам Хью Лофтинга о докторе Дулиттле (более известному российским читателям как доктор Айболит по пересказам К. Чуковского); «Гномобиль» (The Gnome-Mobile, 1967) – комедийный фильм Уолта Диснея по одноименной книге Эптона Синклера; «Пиф-паф ой-ой-ой» (Chitty Chitty Bang Bang, 1968) – английский музыкальный фильм по мотивам одноименной книги Яна Флеминга.]. Бабушка любила каждое утро покупать продукты для ужина, поэтому мы много времени проводили в бакалейных и зеленных лавках, где она учила меня выбирать помидоры, еще хранящие в черешках запах горячего солнца, а потом на кухне преподавала мне азы готовки и доверяла ножи. Подозреваю, что умение сосредоточенно забываться в однообразных кухонных занятиях у меня от нее. Ей было утомительно читать вслух по-английски, зато она помнила наизусть много французских стихов и временами декламировала их мне на призрачном языке своей утраты; у меня осталось впечатление, что французская поэзия главным образом о дожде и скрипках. Бабушка учила меня названиям цифр, цветов, животных: Ours. Chat. Cochon[14 - Ours. Chat. Cochon. – Медведь. Кошка. Свинья (фр.).].
Впрочем, случались дни, когда оставаться с бабушкой было почти все равно что оставаться одному. Она лежала на диване или у себя на кровати в комнате с задернутыми занавесками, прикрыв глаза холодной тряпочкой. У этих дней был собственный словарь: cafard, algie, crise de foie[15 - …cafard, algie, crise de foie. – Хандра, боль, приступ печени (фр.).]. В шестьдесят шестом, к которому относятся мои первые воспоминания, бабушке было всего сорок два, но война, по ее словам, загубила ей желудок, носовые пазухи, суставы (она никогда не упоминала, что война сделала с ее рассудком). Если она обещала присмотреть за мной в один из своих плохих дней, то держалась ровно столько, сколько было надо, чтобы убедить моих родителей или себя, что справится. Затем это что-то брало над нею верх, и она уходила из кино посредине сеанса, обрывала декламацию на первом же стихотворении, поворачивала к выходу из магазина, бросив в проходе наполненную тележку. Не думаю, что я по-настоящему расстраивался. Потом бабушка ложилась, и лишь тогда она разрешала мне посмотреть телевизор. Когда она устраивала
Страница 9
ь полежать, у меня была одна обязанность: время от времени мочить тряпочку холодной водой, выжимать и класть ей на лицо, словно знамя на гроб.За пределами кухни любимым бабушкиным развлечением были карты. Она презирала игры, которые американцы считали подходящими для детей: «пьяницу», «запоминалку» и «ловись, рыбка». Реммик казался ей скучным и бесконечным. Игры ее собственного детства строились на смекалке и обмане. Как только я освоил сложение и вычитание в уме – примерно в то же время, что и чтение, – она научила меня играть в пикет. Довольно скоро я уже почти не отставал от нее по очкам, хотя дед позже сказал мне, что она поддавалась.
В пикет играют колодой в тридцать два листа, и бабушка первым делом выбрасывала все карты от двоек до шестерок. Делала она это довольно бездумно. Когда кто-нибудь возвращался домой после долгого дня, например в конторе, мечтая с удовольствием разложить пасьянс, он частенько находил в ящике комода полдюжины разоренных колод и россыпь перемешанных младших карт. Только по этому поводу дед на моей памяти открыто выражал неудовольствие бабушке, которую обычно всячески баловал и опекал.
– Меня это просто бесило, – вспомнил он как-то. – Я говорил: «Неужели я так много прошу? Неужели нельзя хоть одну колоду оставить? Почему надо разорять все до последней?»
Он вытянул губы трубочкой, сузил глаза, расправил плечи:
– Бё! – (Я помнил этот бабушкин неподражаемый галлицизм.) – Она, видите ли, не разоряла колоду, а улучшала! – И дед передразнил ее с тем самым акцентом техасца в Париже, какой напускал на себя всякий раз, как говорил по-французски: – Синон, коман фэр ун птит парти?[16 - Бё!.. Синон, коман фэр ун птит парти? (Beuh… Sinon comment faire une petite partie?) – Вот те на… А как иначе составить маленькую партию? (фр.)]
Как-то бабушка велела мне принести колоду, чтобы сыграть несколько парти. Я выдвинул ящик и увидел, что с прошлого раза в нем прибрались: вместо россыпи карт там лежали несколько нераспечатанных покерных колод. «Разорить» их значило бы обидеть дедушку хуже обычного.
Я принялся выдвигать другие ящики и шарить между настольными играми в поисках старых бабушкиных карт. В жестянке из-под бартоновских миндальных карамелек обнаружилась колода тоньше американской, в странной голубой пачке, с надписью на языке, который я счел французским, старинным шрифтом, как в шапке «Нью-Йорк таймс». Я решил, что нашел настоящую французскую колоду для пикета и отнес ее на кухню, где мы обычно играли.
Я думал, бабушка обрадуется, но она как будто встревожилась. Она как раз собиралась зажечь винтермансовскую сигариллу, но так и замерла со спичкой на весу. Бабушка курила, только когда мы играли в карты, и мама горько жаловалась, что потом у меня от волос и одежды воняет табаком, но мне запах казался восхитительным.
Бабушка вынула незажженную сигариллу изо рта и положила обратно в коробочку, затем протянула руку ладонью вверх. Я отдал ей голубую пачку. Бабушка открыла ее, вытряхнула карты, а пустую пачку положила рядом с пепельницей. Затем развернула карты веером, картинками к себе. Я видел только рубашки, цвета ночного неба с полумесяцами.
Бабушка спросила, где я нашел карты. Я ответил, она кивнула. Да, действительно, она спрятала их там давным-давно. Эти карты надо прятать, объяснила бабушка, потому что они магические, а мой дедушка в колдовство не верит. И нельзя ему о них говорить, а то он рассердится и выкинет их. Я пообещал хранить тайну и спросил, верит ли бабушка в колдовство. Она ответила, что не верит, но удивительным образом магия работает, даже если в нее не веришь. Ее испуг, что мое открытие может всплыть, вроде бы прошел.
Она взяла голубую пачку и сказала, что напечатанные здесь слова не французские, а немецкие и означают «Гадальные карты ведьмы».
Я спросил бабушку, ведьма ли она. У меня было чувство, что этот вопрос я хотел и не решался задать уже давным-давно.
Бабушка посмотрела на меня и потянулась за отложенной сигариллой. Закурила, потушила спичку. Несколько раз перетасовала карты длинными белыми пальцами. Опустила колоду на стол между нами.
Излагая свои первые воспоминания о бабушке, я до сих пор избегал цитировать ее напрямую. Притворяться, будто я точно или хотя бы приблизительно помню чьи-то слова, произнесенные столько лет назад, – непростительный для мемуариста грех. Однако я не забыл бабушкин короткий ответ на вопрос, означает ли тайное владение гадальными картами, что она и сама – ведьма.
– Уже нет.
Я спросил, значит ли это, что она забыла, как гадать, или просто уже не может. Бабушка ответила, что, наверное, того и другого помаленьку, но она готова показать, как с помощью магической колоды рассказывают историю. Все, что от меня требуется – говоря, она для примера делала это сама, – перетасовать карты, перетасовать их еще раз и снять три верхние.
Мне так и не удалось найти или идентифицировать конкретную бабушкину колоду, «Гадальные карты ведьмы», «Ведьмины гадальные карты», или как там это переводилось. Не исклю
Страница 10
ено, что на воспоминания наложилось то, что я позже слышал о бабушкиной карьере телевизионной ведьмы, и на самом деле они звались «Карты цыганской предсказательницы» или «Гадательный оракул». Однако я достаточно хорошо помню сами карты и могу уверенно сказать, что это была немецкая разновидность стандартной колоды Ленорман.Когда в середине восьмидесятых я переехал в Южную Калифорнию и впервые увидел карты для мексиканского лото с классическими Солнцем, Луной, Деревом, то сразу заметил их сходство с бабушкиными. В ее колоде был Корабль – старинное морское судно под всеми парусами на фоне звездного неба. Дом был беленый, с красной черепичной крышей и хорошеньким зеленым садиком. Всадник в красном фраке скакал на гарцующей белой лошади через желто-зеленые леса. Дитя в бесполой длинной рубашке сжимало куклу и выглядело напуганным. Как и на колодах Ленорман, над каждым Букетом, Птицами или Косой помещался прямоугольничек: миниатюрная карта с немецкими сердцами, листьями, желудями и бубенцами[3 - Судя по всему, колода Ленорман обязана своим происхождением не девице Марии-Анне Ленорман, величайшей карточной гадалке (если не величайшей обманщице) девятнадцатого столетия, а немецкой игре Das Spiel der Hoffnung («игра надежды»), в которой использовались игральные кости и тридцать шесть карт, разложенные в шесть рядов по шесть штук в ряду: своего рода гибрид Таро со «змеями и лестницами».][17 - …карта с немецкими сердцами, листьями, желудями и бубенцами. – Немецкие масти немного отличаются от общепринятых (французских). Сердца соответствуют червам, листья – пикам, желуди – трефам, бубенцы – бубнам.].
Я не помню первую историю, которую бабушка рассказала мне по своей гадальной колоде, как не помню и карт, которые она тогда вытащила. Однако после того вечера «сказки по картам» стали одним из наших времяпрепровождений. Нельзя было угадать, когда на бабушку найдет такой стих, хотя случалось это, лишь когда мы с ней бывали одни. Во всех моих воспоминаниях о сказках за окнами серо, холодно и сыро, – возможно, погода настраивала ее на нужный лад. Всякий, проводивший много времени с маленькими детьми, знает, какую изобретательность рождает мучительная скука. Октябрьскими вечерами у бабушки, измученной моей болтовней, не клеилась готовка и опускались руки. Тогда из тайника – жестянки из-под шоколадно-миндальных карамелек – извлекались карты, и бабушка спрашивала: «Хочешь, расскажу тебе историю?»
И тогда передо мной возникала дилемма. Мне нравилось, как бабушка рассказывает, но персонажи, возникавшие из ведьминой колоды, пугали, и с ними со всеми случалось что-нибудь ужасное. От трех карт, которые я переворачивал лицом вверх на кухонном столе, бабушкино воображение шло загадочным извилистым путем. Скажем, Лилии, Кольцо и Птицы вовсе не обязательно вызывали к жизни историю о птицах, кольцах или лилиях, а если они там и фигурировали, то обнаруживали какие-нибудь неожиданные жуткие свойства, некое проклятие или дремлющую способность приносить зло.
В историях моей бабушки непослушных детей настигала жестокая кара, успех, к которому герой долго и упорно шел, утрачивался из-за минутной слабости, младенцев бросали в лесу, а волки побеждали. Клоун, любивший пугать детей, видел, проснувшись утром, что его кожа стала белой как мел, а рот навеки растянулся в улыбке. Овдовевший раввин распускал свой талес, и этими нитками сшивал из одежды покойной жены новую мать для детей – мягкого голема, безмолвного, как плащ. От бабушкиных историй мне снились кошмары, но когда она их рассказывала, это была бабушка, которую я любил больше всего: веселая, ребячливая, чуть шальная. В последующие годы, описывая ее близким друзьям или психотерапевту, я всегда говорил, что, рассказывая истории, она раскрывалась как актриса. Ее сказки были спектаклем, разыгранным увлеченно и с шиком. Она говорила разными голосами за животных, детей и людей; если персонаж-мужчина притворялся женщиной, смешно пищала, как актеры-комики в женском платье. Ее лисы были вкрадчивыми, псы – лебезящими, коровы – придурковатыми.
Если я не отвечал сразу, что хочу послушать историю, бабушка забирала свое предложение назад и не повторяла долго – иногда по несколько недель. Так что обычно я просто кивал, так и не решив для себя вопрос, стоит ли общество рассказчицы расплаты в виде страшных снов.
Почти пятьдесят лет спустя я помню некоторые из ее историй. Их кусочки сознательно или бессознательно проникли в некоторые мои книги. Память сохранила по большей части те сюжеты, которые я потом встречал в кино или в сборниках сказок[4 - Позже я узнал в одном особенно напугавшем меня фрагменте заимствование из «Неизвестного» Тода Браунинга*.* Тод Браунинг (1880–1962) – американский кинорежиссер, один из основоположников жанра фильмов ужасов, начинавший еще в немом кино. Действие «Неизвестного» (The Unknown, 1927) разворачивается в цыганском бродячем цирке; главный герой – якобы безрукий метатель ножей Алонсо (Лон Чейни), убийца, который скрывается от полиции.]. Еще несколько сохра
Страница 11
ились в памяти потому, что какие-то события или впечатления переплелись с их сюжетом.Так получилось с историей про царя Соломона и джинна. Бабушка сказала, что она «из еврейской Библии», но это оказалась чепуха. Со временем я нашел еврейские сказки про то, как Соломон тягался умом с джиннами, но ни одной, похожей на бабушкину. Она рассказала мне, что Соломон, мудрейший из царей, попал в плен к джинну. Под угрозой смерти джинн потребовал от Соломона исполнить три его желания. Соломон обещал, но с одним условием: исполнение желаний не должно причинить вреда никому из живущих. Тогда джинн пожелал, чтобы не было войн. Царь ответил, что, если не будет войн, дети оружейного мастера умрут с голоду. Он нарисовал такие же катастрофические последствия еще двух внешне благих пожеланий джинна, и в конце концов тот вынужден был его отпустить. Как всегда, финал не был вполне счастливым: с тех пор Соломон и сам не мог ничего пожелать[5 - В старших классах я с изумлением обнаружил источник этой истории в «Хрестоматии Джона Кольера», – по крайней мере, так я думал до сегодняшнего дня, когда тщательно, от корки до корки и обратно, пролистал здешний экземпляр (издательство «Кнопф», 1972) и не нашел там и следа этого сюжета. Либо бабушка позаимствовала его из другого сборника или другого автора, либо мое открытие произошло во сне, вызванном, быть может, рассказом «На дне бутылки» того же Кольера*, с его восхитительно коварным джинном и бессмертной последней строкой.* Джон Кольер (1901–1980) – английский писатель и сценарист, известный главным образом своими рассказами с их парадоксальными, часто фантастическими сюжетами и черным юмором. «На дне бутылки» (Bottle Party, 1939, в других русских переводах – «В бутылке» и «Не лезь в бутылку») – вариация на тему неумеренных желаний и опасности общения с джиннами.].
Я помню эту историю, потому что, закончив ее, бабушка отправила меня за чем-то – очками, журналом – в свою спальню. А может, я просто слонялся по дому. Косой луч вечернего света озарял всегдашний флакон «Шанель № 5» на бабушкином туалетном столике. Джинн, теплящийся в бутылке. Цвет был в точности как бабушкин запах, цвет тепла ее колен и обнимающих рук, хрипловатого голоса, который отдавался в ее ребрах, когда она прижимала меня к себе. Я смотрел на мерцающее в бутылке пленное пламя. Иногда в этом запахе были радость, тепло, уют, иногда от бабушкиных духов у меня кружилась голова и ломило виски. Иногда ее руки были как железные обручи, сдавливающие мне шею, а смех казался горьким, скрипучим, холодным – смех волка из мультика.
Мои пять самых ранних воспоминаний о бабушке:
1. Татуировка на левой руке. Пять цифр, не значивших ничего, кроме невысказанного запрета о них спрашивать. Семерка с перечеркнутой ножкой, как у европейцев.
2. Песня про лошадку на французском. Бабушка подбрасывает меня на коленях. Держит мои руки в своих, хлопает ими. Быстрее и быстрее с каждой строчкой: шаг, рысь, галоп. Чаще всего, когда песня заканчивается, бабушка прижимает меня к себе и целует. Но иногда на последнем слове ее колени раздвигаются, словно люк в полу, и я падаю на ковер. Когда бабушка поет лошадиную песенку, я смотрю ей в лицо, пытаясь понять, что она задумала на этот раз.
3. Багровое пятно «ягуара» 3,4 литра. Коллекционная «матчбоксовская» модель того же цвета, что бабушкина губная помада. Утешительный подарок после того, как она сводила меня к глазному и тот закапал мне атропин для расширения зрачков. Когда я запаниковал, что никогда не буду видеть нормально, бабушка сохраняла хладнокровие; когда я успокоился, на нее напала тревога. Она велела убрать модельку, иначе потеряю. Если я буду играть с машинкой в метро, другие мальчики позавидуют и украдут ее. Мир расплывается перед моими глазами, но бабушка видит его отчетливо. Каждая тень в метро может быть жадным вороватым мальчишкой. Поэтому я убираю «ягуар» в карман. Он холодит мне ладонь, я чувствую его изящную обтекаемую форму, слова «ягуар» и «атропин» будут навсегда связаны для меня с бабушкой.
4. Швы на ее чулках. Прямые, как по отвесу, от юбки до задников «лодочек» фирмы И. Миллера[18 - …до задников «лодочек» фирмы И. Миллера… – Фирма «И. Миллер», созданная Израэлем Миллером (1892–1929), выпускала дорогую дамскую обувь, которая остается культовой и в наши дни, хотя сама фирма закрылась в середине 1980-х. Оформление рекламной кампании этой фирмы в 1950-м принесло первый успех Энди Уорхолу.], когда она кладет косточки в суповую кастрюлю на плите. Золотые браслеты сняты и положены на столешницу с узором из бумерангов и звездочек, рядом с присыпанной мукой мраморной доской для теста. Круглая ручка под циферблатом ее кухонного таймера, ребристая и обтекаемая, как ракета.
5. Сияющий пробор на ее волосах. Увиденный сверху, когда она, присев на корточки, застегивает мне штанишки. Женский туалет, «Бонуит» или «Генри Бендел»[19 - …«Бонуит» или «Генри Бендел»… – «Bonwit Teller» и «Henri Bendel» – старейшие дорогие магазины дамского платья в Нью-Йорке.], зеле
Страница 12
ь и позолота. Я – по-английски и по-французски – ее маленький принц, ее маленький джентльмен, ее маленький профессор. Меховой воротник бабушкиного пальто пахнет «Шанелью № 5». Я в жизни не видел ничего белей ее кожи. Мама отправила бы меня в мужской туалет пописать и застегнуть ширинку самостоятельно, однако я не нахожу в происходящем ничего оскорбительного для моего достоинства. Вспоминается как-то слышанная фраза, и вместе с нею внезапно приходит новое понимание: «Она старается ни на секунду не терять меня из виду».Восьмого декабря 1941 года мой дед, безработный, неприкаянный, известный как катала во всех бильярдных на сто миль от угла Четвертой и Ритнер-стрит, завербовался в инженерный корпус вооруженных сил. Оставив сделанный по спецзаказу брауншвейгский кий дяде Рэю – чем со временем лишил мир цадика, – он погрузился на военный эшелон, идущий в Рапидс, штат Луизиана. После шести недель начальной подготовки его отправили на базу корпуса под городом Пеория, штат Иллинойс, учиться строительству аэродромов, мостов и дорог.
Инстинкт бильярдного каталы требовал прикидываться дурачком, не хвастать знаниями и уменьями, но среди новобранцев Кэмп-Клейборна, а затем – туповатых мужланов Кэмп-Эллиса его уровень игры как инженера и военного угадывался невооруженным взглядом. Дед был силен и вынослив. Его немногословность толковали по-разному, но всегда положительно в смысле мужественности, выдержки, самообладания. Со временем выплыло, что он получил диплом инженера в Дрексельском технологическом, свободно говорит по-немецки, практически непобедим в бильярде[6 - Он оплачивал обучение в Дрексельском институте игрой в бильярдных от Нью-Йорка до Балтимора и Питсбурга. «У меня не было выбора, – рассказывал он мне. – Все, скопленное родителями, шло на обучение моего братца».] и на «ты» с моторами, аккумуляторами и радиоприемниками. Однажды они с товарищами по учебному лагерю уродовали луг на берегу Спун-ривер, и какой-то идиот проехал на грузовике по проводу, соединявшему их полевой телефон со станцией. Дед придумал установить связь через ближайшую ограду с колючей проволокой. Когда пошел дождь и мокрые столбики замкнули линию на землю, дед разрезал автомобильную камеру на полоски и отправил товарищей изолировать проволоку от дерева на двух милях ограды.
На следующий день его вызвали к старшему офицеру группы. Майор был выпускник Принстона, тощий и желтый после долгих лет осушения болот и наведения мостов в малярийных местностях. Его шелушащиеся щеки покрывала сетка лопнувших сосудов. Он вытащил вересковую трубку и принялся неторопливо ее набивать. Время от времени он косился на моего деда, который напряженно стоял по стойке вольно, гадая, в чем провинился. Закурив, майор сообщил деду, что хочет рекомендовать его к переводу в офицерское училище корпуса в Форт-Белвуаре, штат Виргиния.
Атмосфера солдатской жизни была пропитана презрением к офицерам, и мой дед с первой минуты вдыхал ядовитые пары полной грудью, не нуждаясь в фильтре или периоде привыкания.
– Сэр, – отвечал дед после мгновения нерешительности. Он ничего не имел против конкретного майора. Он презирал офицерство как класс. – Я готов махать кувалдой, пока мы не построим шоссе отсюда до Берлина. Но со всем уважением я лучше буду танцующей курицей в стеклянном ящике на Стальном пирсе[20 - …я лучше буду танцующей курицей в стеклянном ящике на Стальном пирсе… – Стальной пирс – парк развлечений, разместившийся на стальном пирсе в Нью-Джерси, с начала века и до 1970-х годов – один из самых больших в США. Аттракцион с танцующей курицей был популярен в Америке до 1960-х годов. Обученная курица сидела в стеклянном ящике – если опустить монетку, курице насыпался корм, и она исполняла небольшой танец. Вариант этого аттракциона, при котором курица играет с посетителем в крестики-нолики, до сих пор встречается в некоторых казино.], чем кадровым офицером. Не сочтите за обиду, сэр.
– Было бы на что обижаться. Я понимаю, о чем вы, и, между нами, аналогия с танцующей курицей довольно точная.
– Сэр.
– И тем не менее знаете ли вы, что, став младшим лейтенантом, получите пятьдесят долларов прибавки к месячному жалованью?
Незадолго до того вылетело в трубу последнее из прадедушкиных заведений – закусочная рядом с бейсбольным стадионом. Теперь прадед работал на складе винного магазина и в корсете от грыжи ворочал стальные бочонки пива «Инглинг». Прабабушке, которая много лет на дому пришивала ленты и кант для шляпника, пришлось пойти упаковщицей тортов и пирожных в кондитерскую, которой владели два сводных брата, вымещавших жгучую взаимную ненависть на продавцах. Дед понимал, что его родители будут тянуть любую лямку и сносить любые издевательства, чтобы платить за образование Рэя, на которого возлагали все надежды.
– Нет, сэр, – ответил он, – этого я не знал.
Две недели спустя – за день до того, как других солдат из его группы погрузили на поезд в Даусон-Крик, Британская Колумбия, где им предстояло строить Аляскинскую магистраль, – деда отправи
Страница 13
и в училище офицерского состава инженерных войск в Форт-Белвуаре. Невеселый то был путь.Вдали от морозного севера и первых боев войны, в трех часах езды от Шанк-стрит, на фоне скуки, какой не было даже на гражданке, дед впал в мрачные раздумья. За годы в бильярдных и в институтских аудиториях он привык делить людей на слабаков, идиотов и мошенников, и жизнь в Форт-Белвуаре лишь подтверждала правильность этой классификации. Куда ни глянь – всюду лень, некомпетентность, очковтирательство. У других военнослужащих это рождало цинизм, у моего деда – почти постоянное озлобление.
Учитывая близость Форт-Белвуара к Вашингтону, неудивительно, что дедова злость довольно быстро распространилась за ограду базы на само правительство. Несмотря на Пёрл-Харбор и порожденный им страх перед вторжением, столица по-прежнему беспечно относилась к противникам, отделенным от нее океаном. Зенитные батареи располагались редко. Небо патрулировали тарахтящие бипланы Кертисса, реки и мосты – несколько катеров береговой охраны.
Как-то в однодневной увольнительной дед гулял по улицам и, растравляя свою злость, сочинил план захвата Вашингтона. Для большего правдоподобия он разыгрывал роль рейхсмаршала на прадедушкином пресбургском немецком: гортанные согласные придавали изложению стратегии дополнительный смак. Дед погрузил триста своих специально обученных десантников на подводные лодки и высадил в устье реки Патаксент, в том самом месте, откуда в 1814-м начали вторжение британцы. Его диверсанты-подводники взорвали мосты через Потомак и электростанции, захватили радиовышки, перерезали телефонные и телеграфные провода. Гранатами и колючей проволокой они превратили прямоугольную сетку улиц на подступах к городу в непроходимый лабиринт. Тридцати человек хватило, чтобы овладеть Капитолием, десяти – чтобы захватить Белый дом. На исходе второго дня операции мой дед, в сапогах и вермахтовской фуражке, стоя рядом с Франклином Делано Рузвельтом, протягивал тому ручку для подписания капитуляции.
Деда напугала изящная простота собственного плана. В тот же вечер он напечатал трехстраничную докладную записку старшему офицеру. Записку то ли отправили не туда, то ли не прочли, то ли оставили без внимания. После отбоя дед пересказал свой план соседу по комнате, выпускнику инженерного факультета Массачусетского технологического Орланду Баку.
По чистой случайности Бак входил в число немногих курсантов, выбивающихся из трехчленной классификации моего деда. Он был из старого массачусетского рода, сын и внук людей, положивших жизнь на строительство легендарных мостов в Аргентине и на Филиппинах. Опыт хулиганских проделок в престижных учебных заведениях и фамильная история выработали у Бака вкус к взрывному делу, так что в дедовом плане его зацепила именно эта часть.
– Хватило бы одного моста, – решил он. – Взорвать мост Фрэнсиса Скотта Кея, и они бы всё поняли.
Шли недели, ответа на записку деда все не было. Орланд Бак и мой дед в каждую увольнительную демонстративно присматривались к мосту Фрэнсиса Скотта Кея с его изящной кавалькадой пролетов. Бак фотографировал, а дед без всяких помех зарисовывал быки и береговые устои моста. Несмотря на все их усилия, никто не полюбопытствовал, с чего бы двух молодых людей так заинтересовал мост, выстроенный инженерным корпусом в тридцатых годах по проекту, который разработал друг отца Орланда Бака.
Каждый день Бак с дедом набирались опыта на занятиях по взрывному делу, а вечерами изучали официальные планы моста в библиотеке базы.
– Тут-то они почешутся, – говорил Бак, лежа на койке; в темноте приглушенное радио сообщало, что Роммель взял Тобрук. – Тут-то эти козлы почешутся.
Дед гадал, как давно его приятель перешел от сослагательного наклонения к будущему времени. Он и на минуту не верил, что Бак намерен преподать кому-либо урок или добиться справедливости. Бак не был одержим правдоискательством. Ну конечно, он просто прикалывается.
– Не увлекайся, – на всякий случай предупредил дед.
– Кто, я?
В кузове старого грузовика без мотора и колес, ржавевшего под брезентом на автобазе, они поставили ящик, куда сложили десять бомб собственного производства. Конструкция бомб была донельзя простой и эффективной: деревянные патронные коробки, набитые нитроцеллюлозой, которую Бак с дедом в незаметных количествах выносили с учений по взрывному делу. Детонаторы и шнур добыли тем же способом – совсем немного, ровно столько, чтобы дед мог наглядно и безопасно привлечь внимание к своим опасениям. К концу каждого шнура он прикрутил собственноручно отпечатанную записку: NUR ZU DEMONSTRATIONSZWECKEN[7 - Только для демонстрации (нем.).].
– Не люблю, когда увлекаются, – сказал дед.
– И я тоже, – бесстыдно ответил Бак.
В ночь, выбранную для операции, они надели пояса для инструментов, разложили бомбы по четырем вещмешкам и сбежали в самоволку с легкостью, подтвердившей дедово презрение к порядкам в Форт-Белвуаре. Они пробились сквозь заросли бурьяна и перешли через грунтовую дорогу в лес, который
Страница 14
когда-то был частью изначальной плантации Белвуар. Чертыхаясь в темноте, разыскали железную дорогу Ричмонд – Вашингтон, дождались товарняка и залезли на пустую автомобильную платформу.Перед самым Потомакским узлом они спрыгнули с поезда и очутились среди низких кирпичных домов. От станции несло соляркой и озоновым запахом искрящих электровозных пантографов. Эти запахи и домики с их немного удивленным выражением разбудили в моем деде старые желания и обиды. Он гадал, как в прошлые и будущие годы: может, в эту самую ночь начнется наконец его жизнь, настоящая жизнь.
Они нашли припаркованный за домом старенький грузовичок «форд». Заднее стекло кабины было забито перфорированным оргалитом. Дед локтем выбил оргалит и протиснулся в кабину. Ему никогда не случалось заводить машину без ключа, но принцип был понятен, а «форд» не сопротивлялся. Примерно за минуту дед включил мотор. Он открыл дверцу и перебрался на пассажирское место. Орланд Бак сел за руль и ощупал баранку.
– Стервец, – самозабвенно проговорил он. – Ну ты стервец.
– Езжай, – сказал дед.
Тяжелое тело ударило в дверцу. В окне со стороны Бака возникли собачьи глаза и алая пасть. Из дома раздался мужской крик. Орланд Бак хохотнул. Пока он возился со сцеплением и ручкой переключения скоростей, грузовик выкатил из проулка. Тут Бак наконец вдавил газ, и они оторвались от бешено лающего пса. Грузовик явно не обещал тихой езды. Когда они сворачивали на магистраль Джеффа Дэвиса, несчастный драндулет дребезжал так, будто тащит за собой мешок старых будильников.
После этого Орланд Бак взял себя в руки. Он ехал в темноте осторожно, не превышая скорости. Они миновали новый аэропорт, пустырь, на котором строилось новое здание военного министерства, кладбище, где под белыми крестами лежали дед и отец Бака, протащили свой груз будильников по дорожному полотну намеченной жертвы и свернули налево. Чуть выше Джорджтауна, у бывшей конечной пристани на канале Чесапик – Огайо, Бак выключил скорость, заглушил мотор, и они вкатились на гравийную площадку лодочной станции Флетчера. Прежде чем вылезти из кабины, Бак с дедом зачернили лица жженой пробкой и надели черные вязаные шапки. Орланд Бак был на седьмом небе, и дед нехотя признал про себя, что и ему приключение пока нравится.
– Когда-нибудь греб на каноэ? – спросил Бак, ветеран многих летних лагерей в Новой Англии.
– Видел, как это делают, – ответил дед, думая, в частности, о немой версии «Последнего из могикан», которую смотрел в джермантаунском «Лирике». – Раз Бела Лугоши справился, справлюсь и я[21 - – Когда-нибудь греб на каноэ? – спросил Бак… / – Видел, как это делают, – ответил дед, думая, в частности, о немой версии «Последнего из могикан», которую смотрел в джермантаунском «Лирике». – Раз Бела Лугоши справился, справлюсь и я. – Бела Лугоши (Бела Ференц Дежё Блашко, 1882–1956) – американский актер венгерского происхождения, наиболее известный исполнением роли Дракулы. В «Последнем из могикан» (1920) играл Чингачгука.].
Петлю навесного замка дед сбил долотом и молотком, приоткрыл дверь и вошел внутрь. В лодочном сарае пахло старыми парусиновым туфлями. Бак нашел счастливое каноэ номер девять – то самое, в котором машинистка военного министерства по имени Ирма Бадд однажды сделала ему минет. Пошатываясь, они дотащили каноэ до лодочного слипа. Мой дед загрузил вещмешки, а Бак сбегал за веслами.
– Ну что, Лугоши, прокатимся?
Дед спустил каноэ к воде, влез на корму и оттолкнулся. На такого рода вопросы он не отвечал никогда.
В каноэ номер девять бесшумно, как индейцы, Бак с дедом пересекли Потомак. На этом этапе операции действовать предстояло на виду, и они сочли за лучшее вернуться к виргинскому берегу, в те времена практически дикому. Приключение утихомирило Орланда Бака; теперь это был сдержанный янки, две мускулистые руки на деревянном древке. От моего деда проку на переправе поначалу было не больше, чем от венгерского актера, что, впрочем, не смущало его и не огорчало. Они выбрали для операции безлунную ночь, но погода стояла ясная, и над головой у деда сияла капельками припоя электронная схема неба. К тому времени, как Бак развернул каноэ, чтобы проделать последний отрезок пути до моста, дед уже греб уверенно. Он был счастлив, как никогда.
Казалось, мост напружинился, напрягся всеми железобетонными арками. Орланд Бак с дедом были уже под ним. Мост у них над головой загудел от проезжающего автомобиля. Дед положил весло и пригнулся; Бак подвел лодку к основанию устоя, прочно врытого в виргинскую землю, и ухватился за него рукой. Дед расстегнул вещмешок, вытащил первую бомбу и упертый из лазарета рулон пластыря. Будь у них время и по-настоящему дурной замысел, они бы кайлом или буром проделали в бетоне отверстия, чтобы заложить взрывчатку туда. Железобетон – штука жутко крепкая. По дедовым расчетам, чтобы действительно обрушить мост Кея, потребовалась бы тысяча фунтов нитроцеллюлозы. Он закрепил первую бомбу на бетонном копыте моста. Звук отрываемого пластыря резонировал под а
Страница 15
кой, словно раскат грома.– Следующая, – сказал дед.
Орланд Бак тронул веслом воду, и они двинулись ко второй опоре. Вода плескала о каноэ и об основание быка.
У моста Фрэнсиса Скотта Кея пять арок – три большие перекинулись над водой, две маленькие крепят его к берегам. Орланд Бак с моим дедом по очереди прилепили по три бомбы на каждый из четырех центральных быков, всего двенадцать. Когда они закончили, было почти четыре утра. Дед глянул на подбрюшье моста. Его восхитило, что пространство между каждой аркой и плоским настилом заполнено арками второго порядка, перевернутыми «U», которые удлиняются тем больше, чем дальше арка первого порядка уходит от настила. Вся конструкция гудела от ветра. За железобетонным сводом весенние животные и герои вершили ход в исполинском своде небес. Арка на арке несли тяжесть моста, сдавленные силой, которая не давала конструкции развалиться. Дед глянул на Орланда Бака. Тот держал в руках взрыватель замедленного действия и стопятидесятифутовый моток огнепроводного шнура, которых дед не видел и про которые ничего не знал.
– Думаю, тебе стоит взять весло и отойти от моста чуть подальше, – сказал Орланд Бак.
Дед кивнул. На каком-то уровне он и раньше подозревал, что Бак замышляет нечто подобное. Он сел и ловко развернул каноэ по течению. Бак одной рукой вытравливал шнур, следя, чтобы не задеть взрыватель. Они прошли примерно сто сорок футов вдоль вашингтонского берега, после чего дед поднял весло и приложил им Орланда по голове. Бак рухнул лицом вниз. Дед сдернул взрыватель со шнура и бросил в реку. Потом усадил Бака, убедился, что друг без сознания и жив, уложил того на корму лодки и погреб к лодочной станции. Когда он добрался до места, Бак был еще в отключке. Дед в одиночку затащил каноэ в сарай и оставил три доллара за сломанный замок. Прежде чем загрузить Бака в кабину украденного грузовика, он выбросил пустые вещмешки в мусорный ящик.
На мосту Кея Орланд Бак застонал и открыл глаза. Он глянул в окно. Тронул пальцем ушибленное место и снова застонал. Потряс головой.
– Черт, – проговорил он с горьким уважением.
– Ты увлекся, – ответил дед.
На следующий день, когда мой дед вернулся с занятий по геодезии и картографии, у двери в его комнату стояли двое военных полицейских, по одному с каждой стороны. Он приготовился бежать, затем смирился с неизбежным. Его уши, щеки и внутренние органы горели от мысли, что матери теперь до конца жизни терпеть измывательства двух кондитеров.
«Подснежники»[22 - «Подснежники». – Во время Второй мировой войны форма корпуса военной полиции США включала широкую белую полосу на каске, белый ремень, белые перчатки и белые гетры, отсюда и прозвище «подснежники».] при его приближении остались стоять навытяжку. В их взгляде были смертельная скука и ненависть, и дед смотрел на них ровно с тем же выражением.
– Меня ищете? – спросил он, останавливаясь перед дверью на равном расстоянии от их глоток.
– Нет, сынок, – ответил голос из комнаты, в которой дед с Баком доигрались, как подозревал дед, до Ливенворта[23 - …доигрались, как подозревал дед, до Ливенворта. – В Форт-Ливенворте расположены Дисциплинарные казармы – военная тюрьма строгого режима.]. Голос был звучный, мягкий и неспешный, но в то же время властный. – Это я тебя ищу.
Когда дед вошел в комнату, со стула встал пожилой мужчина, такой же плечистый, как и он сам, – постаревший и располневший здоровяк. На нем был серый костюм в клетку «принц Уэльский», с красноватой полоской, красный с серебром галстук и роскошные черные туфли. Хотя выглядел он как английский адвокат, дед сразу почуял в нем военного. Мужчина холодно, не таясь, смерил деда взглядом. Судя по всему, увиденное совпало с тем, что он слышал или прочел в рапорте. У него были удивительные глаза. В своем рассказе дед сперва сравнил их цвет с морским льдом, потом – с горящей конфоркой.
– Полагаю, рядовой, для тебя не будет новостью узнать, – с манхэттенской растяжкой процедил мужчина, – что ты влип по-крупному.
– Да, сэр.
– Вот именно. А как иначе. Если искать неприятности, они тебя найдут. Упорство дает предсказуемый результат.
– Сэр, я не искал неприятностей, я…
– Не трудись отпираться. У тебя все на лице написано. Ты ищешь неприятностей всю свою жизнь.
– Сэр…
– Я ошибаюсь, рядовой?
– Нет, сэр.
– Ты украл боеприпасы армии США. Ушел в самоволку. Угнал грузовик. Позаимствовал каноэ. Заминировал боевой взрывчаткой федеральную собственность.
– Это не входило в план, сэр, – сказал мой дед. – Боевая взрывчатка.
– Да? И каким же образом она там оказалась?
Было ясно, что Бак во всем сознался, но мой дед не сдал усатую девушку на железнодорожной станции и не хотел сдавать друга, даже если тот сам его заложил.
– Это был недочет командования, – сознался дед.
Лед в глазах мужчины сменился огнем. Деда слегка огорошило внезапное осознание: он нравится грузному старику.
– Отец Орли Бака был моим адъютантом в Шестьдесят девятом пехотном. Он тоже вечно искал неприятностей на
Страница 16
вою голову и знал: если обратиться ко мне, я так или иначе вытащу его из любой передряги. Поэтому, когда двое «подснежников» пришли его забирать, Орли позвонил старому дяде Биллу.Обрывки анекдотов, родословных и намеков, оброненных Орландом Баком за последние месяцы, сложились у деда в голове и зажгли искру надежды.
– Полковник Донован, вы могли бы вытащить из передряги и меня? – спросил дед.
– Знаешь, малыш, – ответил Дикий Билл Донован[24 - …ответил Дикий Билл Донован. – Уильям Джозеф Донован по прозвищу Дикий Билл (1883–1959) – американский военный, юрист и шеф спецслужб. Первую мировую войну закончил в звании подполковника, во время Гражданской войны в России находился при штабе Колчака. С лета 1941-го личный координатор Рузвельта по разведывательной деятельности, с июня 1942-го – директор Управления стратегических служб. Руководил сбором разведданных и организацией диверсий в Северной Африке и Европе.], – вообще-то, наверное, мог бы. Но как мы уже выяснили, ты вовсе не этого хочешь, верно?
V
После ареста за покушение на жизнь директора «Федеркомс» мой дед неделю провел в тюрьме. Залог назначили высокий, а из имущественного обеспечения он мог предоставить только двадцатипятидолларовый телескоп и «кросби» 1949 года.
За эту неделю дед звонил бабушке дважды. Первый раз он соврал насчет города, где находится, и не упомянул про арест. Адвокат Шульман отправил кого-то забрать «кросби» из гаража на Восточной Пятьдесят седьмой улице и перегнать обратно в Нью-Джерси. Шоферу велено было сказать бабушке, что дед отправляется в срочную командировку поездом.
На четвертый день в следственной тюрьме дед позвонил снова. Он поделился с бабушкой утаенными прежде впечатлениями об августовской коммивояжерской поездке, выдав их за свежие: вид из окна мотеля на грязную Саскуэханну. Итальянский ресторанчик, где подают спагетти под зеленым соусом, который называется песто. Долгие обходы потенциальных клиентов по жаре. Дед ненавидел свою работу с первого дня, но теперь, когда потерял ее – пустил под откос, – задним числом находил прелесть в тех скучных днях, когда нахваливал федеркомсовские заколки в провинциальных галантерейных магазинчиках. Со слезами на глазах дед, в сером арестантском комбинезоне, рассказывал по тюремному телефону-автомату, как жена аптекаря в Эльмире сперва взяла одну коробку заколок, а когда он поднял демонстрационное зеркальце повыше, добавила к заказу еще две.
Вариант сообщить бабушке все как есть дед не рассматривал. Она и без того балансировала на краю, и правда могла бы подтолкнуть ее дальше. Так он объяснял свою ложь и себе тогда, и мне тридцать лет спустя. Однако я думаю, что это не полное объяснение. Дед никогда бы не солгал, чтобы обелить себя или избежать ответственности. В отличие от бабушки, он не получал удовольствия от вранья. Но хотя дед был человек семейный, он при всей любви к нам в душе оставался одиночкой. Ему не требовалось ни сочувствия, ни помощи в разгребании собственных ошибок. Он ненавидел притворство – тут они с бабушкой были небо и земля, – однако мания самостоятельности вынуждала скрывать истину. Да, психиатры, которые в подобных вещах разбираются профессионально, и впрямь из года в год советовали ему оберегать жену от тревожных известий, однако верно и другое: этот совет вполне отвечал его натуре. Она вечно пугала непогодой; он родился с зонтиком в руке.
По правде сказать, если бы не тревога за душевное здоровье жены, дед, скорее, обрадовался бы парочке дней в тюряге. Раскаяние требует одиночества, и для него не придумаешь места лучше железной койки в «Гробницах»[25 - …не придумаешь места лучше железной койки в «Гробницах». – «Гробницы» – народное прозвище Манхэттенской следственной тюрьмы, по архитектурному облику первоначального здания в псевдоегипетском стиле, выстроенного в подражание гробницам фараонов.]. Однако деда колотило от мысли о неизбежном срыве и катастрофе дома. Уж на что он не любил просить о помощи – особенно тех, кому он дорог и кто придет на выручку бесплатно, – пришлось сказать Шульману, чтобы тот поискал его младшего братишку.
Дядя Рэй считался в семье вундеркиндом; в двадцать три года он уже стал раввином. Но где-то в начале пятидесятых взгляды моего двоюродного деда на Божественный промысел и игру шансов поменялись диаметрально. Он ушел из балтиморской синагоги и стал неплохо зарабатывать бильярдом и покером на полуострове Делмарва. Чтобы собрать залог для деда, Рэю потребовались неделя времени, запас добровольных жертв и нежданный выигрыш Безнадежной Надежды в пятом забеге в Хайалие.
Денег, с которыми мой дед вышел из «Гробниц», хватило ровно на бритье в парикмахерской, автобус, орехово-карамельный батончик для моей матери и кофе с пончиком для себя на автостанции в Патерсоне. Через Шульмана, который должен был представиться «адвокатом, связанным с фирмой вашего мужа», дед попросил бабушку встретить его автобус в половине одиннадцатого.
В четверть двенадцатого ее еще не было. Дед на последний десятицентовик п
Страница 17
звонил домой:– Я здесь.
– Здесь? Где это?
– В Патерсоне. На автостанции.
– Патерсон, – повторила бабушка, как будто припоминая, когда-то вроде слышала про такое место. На ее новой родине было слишком много бессмысленных нелепых названий.
– Тебе разве Шульман не сказал?
– Шульман? Кто такой Шульман?
– Адвокат. Шульман.
– Ясно. Шульман – адвокат. – Можно было вообразить, как она записывает эти слова, чтобы потом их изучить: «Патерсон», «Шульман», «Адвокат». – А теперь скажите мне, кто вы такой?
Лишь много позже дед узнал про статью в «Дейли ньюс», однако сейчас он понял, что, несмотря на все его усилия, до бабушки дошли слухи об аресте.
– Послушай, – ответил он. – Не знаю, что и сказать. Мне очень стыдно.
– Правда? За что?
– Милая, я понимаю, что очень виноват. Но я все исправлю, честное слово. Прости меня, пожалуйста. Я знаю, как ты, наверное, тревожилась.
– О нет, ничуть! – Из-за французского акцента бабушкино ехидство всегда звучало очень театрально. – Всякий раз, начиная тревожиться, я вспоминала, как ты прыгаешь с самолета, чтобы срочно доставить гребни растрепанным дамам в Бингемптауне, штат Нью-Йорк.
Дед скривился, узнав карикатурную версию той убогой лжи, что сочинил вместе с Шульманом. Бабушка вполне раскусила дедов расчет, что на смутной мысленной карте его жены-иммигрантки Бингемптон находится где-то далеко на периферии. Обычно она видела насквозь и деда, и его стратагемы. Как все мужья «везучих» жен, он обнаружил, что «везенье» на самом деле – упорство, наблюдательность, чуткий слух на ложь и глубоко подозрительная натура. В Южной Филадельфии такое «везенье» тоже встречалось, но здесь оно позволяло больше, чем просто выживать.
– Милая, – взмолился он, – я неделю провел в тюрьме. Я грязный, полумертвый и стою на автобусной станции в Патерсоне. Пожалуйста, забери меня.
– Ты что-нибудь ел?
– Я съел пончик. Как она?
– Она в школе.
Дед не спрашивал, где моя мама. Что она в школе, было и так ясно, исходя из времени и дня недели. Однако он не стал настаивать. Все равно от вопроса не было никакого проку.
– Этот пончик, который ты съел. Какого он был размера?
– Какого размера? Пончик, обычного пончикового размера. Милая…
– Но червячка ты заморил?
– Да.
– Отлично. Значит, тебе хватит сил дойти пешком, – сказала она и повесила трубку.
Дед стрельнул десятицентовик у солдатика, едущего в Трентон в отпуск, и еще раз позвонил домой. Бесполезно: бабушка сняла трубку с аппарата. Чтобы не разочаровывать солдатика, дед, слушая гудки «занято», разыграл короткий разговор с женой, закончившийся полным прощением и примирением. Он кашлянул, чтобы заглушить щелчок, с которым автомат выплюнул монетку, и на эти десять центов доехал на автобусе до Шеридан-авеню в Хо-Хо-Кусе.
Довольно долго он шел мимо новостроек. Не засеянная травой земля с воткнутыми прутиками саженцев, ряды одинаковых домов, похожих на товарные вагоны. Когда он каждый день проезжал мимо них по пути на работу и обратно на скорости сорок пять миль в час, новостройки выглядели безобидно. Сейчас казалось, что он никогда из них не выберется. От домов во все стороны расползалась жидкая грязь. Поля, сады, рощицы дубов и масличного ореха, на которые не посягнуло время или топор, – все тонуло в этом чавкающем месиве. Чем ближе к дому, тем больше деда терзал смутный страх, что за время его отсутствия грязная жижа затопила их белый домик на зеленом холме.
Он гнал эту мысль. Досадовал на себя за нее. Но картина возвращалась снова и снова: его дом, его жена и дочь погребены под жижей. Наконец он свернул с шоссе на гравийную дорогу и оказался среди яблонь и кукурузных полей. Паника немного отпустила. И все же он не мог до конца убедить себя, что жена и дочь живы.
* * *
Как мне рассказывали, незадолго до немецкой оккупации бабушку, незамужнюю, беременную и не достигшую еще восемнадцати лет, взяли под свою опеку кармелитские монашки в окрестностях Лилля, где жила ее семья – богатые еврейские торговцы лошадьми и кожей. Узнав, что бабушка ждет ребенка, к тому же от католика – то, что он симпатичный молодой врач, оправданием не сочли, – семья от нее отреклась, и к монашкам ее устроили как раз родители симпатичного молодого доктора. Вскоре после маминого рождения всех бабушкиных родных отправили в Освенцим, где они и погибли. Симпатичного молодого доктора расстреляли эсэсовцы за то, что он лечил участников местного Сопротивления.
Бабушкины родные всегда осуждали ее любовь к театру, поэзии, творческим рукоделиям. Монахини, наоборот, любили и поощряли прекрасное. Они зарабатывали тем, что плели и продавали ароматические веночки из лавра и сухих цветов. У них были сады, ульи и луг с овечками. Когда мне было лет восемь-девять, мама рассказала мне про «вину выжившего» и объяснила, что именно этим синдромом страдает ее мать: нигде ей не было так хорошо, как у сестер лилльского кармелитского монастыря.
На бабушкиной и дедушкиной ферме, занимавшей одиннадцать акров в предместье Хо-Хо-Куса,
Страница 18
Нью-Джерси, не было ни монахинь, ни овечек, но были яблоневый сад и луг. В первую зиму дед смастерил ульи и рамки для сот по схемам из библиотечной книги. Он арендовал ферму в ожидании бабушкиного выхода после первой госпитализации (тогда она пробыла в клинике с конца пятьдесят второго до конца пятьдесят четвертого). Он надеялся, что ферма вернет ей прежнее монастырское счастье.Яблоки оказались каменными. Выписанные из Франции пчелы страдали апатией и тягой к дальним странствиям. Однако при первом взгляде на беленый пряничный домик в розах бабушка согласилась с логикой деда. Она вышла из Грейстоунской психиатрической больницы притихшая, носила себя, как яйцо на ложке, но следующие два с половиной года на ферме прошли в относительном довольстве. Никакой ангел не понуждал бабушку оголять пророчества своего тела перед попутчиками в автобусе или троллейбусе. Она бросила долгие голодовки, из-за которых ее кожа становилась прозрачной для внутреннего света, или, как считала сама бабушка, для Христа ее спасительниц-монахинь. Она нашла работу, играла главных героинь в трех пьесах в престижном театре «Пейпер-Милл» и получила маленькую роль в возрожденной постановке «О, молодость!», которая так и не добралась до Бродвея[26 - …и получила маленькую роль в возрожденной постановке «О, молодость!», которая так и не добралась до Бродвея. – «О, молодость!» (Ah, Wilderness!, 1932) – комедия американского драматурга Юджина О’Нила (1888–1953). Многие бродвейские постановки сначала «обкатывают» в провинции и в случае провала просто не выпускают на бродвейскую сцену.]. До весны пятьдесят седьмого Конь Без Кожи держал свои шуточки при себе.
Примерно за неделю до вспышки дедовой ярости в «Федеркомс» бабушкин старый знакомец вернулся, избрав новым местом жительства исполинский масличный орех перед входом в дом. Точное время и причина его появления остались для моего деда неизвестными. Задним числом он вспомнил, что раз или два бабушка замирала, прикрыв глаза, как будто перебарывает приступ тошноты. Он вспомнил, как она подавляла дрожь, вспомнил улыбку, слишком надолго прилипшую к лицу. Вполне может быть, что Конь Без Кожи ошивался рядом несколько месяцев, прежде чем заселиться в домик на дереве, который дед построил моей маме в подарок на тринадцатый день рождения.
В день возвращения из тюрьмы, подходя к дому, он первым делом увидел дерево. Оно было шестидесяти футов высотой, посаженное задолго до начала века первыми обитателями дома, христианской общиной, исповедующей свободную любовь. В разгар лета оно выглядело точь-в-точь как детский рисунок: правильный ярко-зеленый круг. Домик, спрятанный между ветвей, был маминой бригантиной и крепостью. Теперь у основания ствола чернело обгорелое пятно, от которого, извиваясь, уходили вверх четыре темные полосы. Это походило на отпечаток исполинской ладони.
Окна-бойницы маминого домика смотрели на деда, пока тот обходил кухню по пути к заднему крыльцу: передним никто в семье не пользовался. Дед преодолел три ступеньки – последние три шага его долгого пути домой. Доски у него под ногами были прибиты только прошлым летом. Прежнее крыльцо сгнило, и дед сломал его с яростью, очень напоминающей надежду. Работая то в одиночку, то с моей мамой, которая подавала гвозди из ведерка или прижимала задом доску, он сколачивал и красил новое крыльцо с готическим кружевом, выпиленным по другой библиотечной книге. Сейчас дед чувствовал ногами прочность своей работы. Пусть ни крыльцо, ни дом никогда не будут его собственностью: в те годы он не замахивался на то, чтобы владеть куском мира. Уберечь бы этот кусок от огня и разрушения – вот все, к чему он стремился.
Во второй половине летнего дня похолодало, но дверь стояла открытой. Из дома пахло луком, лаврушкой, булькающим на огне вином. Из гостиной доносился шубертовский квинтет «Форель» с пластинки на проигрывателе. Окна кухни запотели изнутри. За ними стремительно двигался силуэт моей бабушки. Она была потрясающей кулинаркой и никогда не чувствовала себя так уверенно, как когда сжимала палисандровую ручку острого как бритва кухонного ножа «Сабатье». В начале пятидесятых, до того как первый раз попасть в психбольницу, бабушка часто появлялась на Тринадцатом канале в программе «Готовим дома» и учила французской кухне балтиморских домохозяек (по крайней мере, тех, у кого был телевизор) и недолгое время вела собственную программу «La Cuisine», выходившую по утрам два раза в неделю[8 - Я по-прежнему готовлю петуха в вине, картофельный суп-крем и омлет по бабушкиным рецептам, напечатанным на голубых каталожных карточках. Я забыл или потерял ее замечательную омлетную сковороду в переездах и сумятице после моего развода.].
– Смотри, кто пришел, – сказал дед, входя в жаркую кухню.
Бабушка подняла взгляд от кастрюли и венчика. Потянулась за спину развязать фартук. Она уложила волосы и надела жемчужные бусы. Жемчуга лежали на раскрасневшейся коже между шеей и ложбинкой в глубоком вырезе черного свитера. Казалось, они сияют впитанным жаром тела. Де
Страница 19
и бабушка прощали друг друга с прагматичностью любовников в падающем самолете: будет время для взаимных упреков, если останутся живы.– У нас час до школьного автобуса, – сказала бабушка.
Дед снял ботинки, костюм и галстук, мятую белую рубашку, носки и носочные подвязки. Бабушка помогла ему стащить трусы и отвела его, голого, в ванную, чтобы он отмылся от «Гробниц».
Приятно было стоять под горячим душем, но дед не стал растягивать удовольствие. Когда он вошел в спальню, бабушка лежала на кровати голая, опершись на локоть. Она оставила только ниточку жемчугов, зная, что деду так нравится.
Снимок моей бабушки в бикини, сделанный во Флориде, когда ей было лет сорок пять, запечатлел пышную даму с большим бюстом и ямочками на коленях. Но к тому времени она уже прошла гормонозаместительную терапию (ГЗТ) первого поколения, от которой успокоился рассудок и расплылось тело[9 - И которая свела ее в могилу: бабушка умерла от рака матки в 1975-м, в пятьдесят два года.]. Когда она приняла деда в свои объятья после его выхода из следственной тюрьмы, ее живот под шелком растяжек был упругим и круглым. Талия оставалась стройной, запястья и щиколотки тонкими. Дед взял бабушку за щиколотку, подтащил к краю кровати, прижал к себе ее задранные ноги и вошел в нее, крепко упираясь ступнями в пол. Жемчуга на ее коже блестели в наступающих сумерках.
* * *
В марте девяностого, вставая с унитаза в уборной своего дома в поселке для престарелых Фонтана-Виллидж (Коконат-Крик, Флорида), дед услышал, как что-то хрустнуло. Очнулся он на окровавленном полу с расквашенной губой и переломом ноги. Позже выяснилось, что перелом стал результатом метастазов. Мы узнали, что последние полгода дед, никому не говоря, отказывался лечить карционоидную опухоль в кишечнике. Однако поначалу было известно только, что он упал, и кому-то надо за ним ухаживать, пока не заживет перелом.
Моя мама, адвокат по защите общественных интересов, как раз готовила коллективный иск против фармацевтической компании, чьи средства ГЗТ второго поколения спровоцировали рак яичников и смерть у тысяч женщин моложе шестидесяти лет. Мой младший брат, избравший карьеру актера в Лос-Анджелесе, должен был сниматься в пилотной серии перезапуска научно-фантастического сериала семидесятых годов «Космос: 1999». Я готовился ехать в писательское турне по случаю того, что мой первый роман вышел в бумажной обложке, и пытался (как впоследствии оказалось – тщетно) спасти из пробитого трюма моего первого брака что-нибудь, кроме материала для двух-трех рассказов.
Существовала еще призрачная «подружка». Как выяснилось, дед всем нам говорил о ней одинаково мало. Ее зовут Салли. Она художница. Недавно овдовела. Никто из нас не знал даже ее фамилии, не то что телефонного номера.
Салли сама позвонила моей маме на следующий день после несчастного случая и сразу перешла к сути. Хотя они встречались только с прошлого сентября и еще не очень хорошо друг друга узнали, она готова помочь. Однако она три кошмарных года ухаживала за покойным мужем и, честно говоря, не уверена, что в силах пережить это заново. Мама поблагодарила Салли и сказала, что понимает. У нее осталось чувство, что Салли успела неплохо узнать деда и сообразить, что пациентом он будет не из покладистых.
Итак, мама вылетела во Флориду забирать человека, который был ей отцом с четырех лет. Она надеялась, что в Окленде сумеет организовать уход и лечение, не бросая работу. Для долгого путешествия на запад мама взяла деду билет первого класса – вопреки всем его возражениям, – чтобы ему было удобнее. Она договорилась, чтобы его почту пересылали на ее адрес, собрала в чемодан его вещи и бумаги. Чемодан был большой, туда влезло бы много, но дед выбрал только:
1. «Ракеты и полеты в космос» Вилли Лея (3-е издание, Викинг, 1957) – историю реактивных полетов до 1956 года с подробным, хотя и совершенно ошибочным, прогнозом управляемого полета на Луну. Я знал, что дед любит и саму книгу, и автора, но конкретный экземпляр раньше в руках не держал. Он был без супера и с явными уликами своего происхождения на форзаце: ободранной бумагой на том месте, где прежде был кармашек для формуляра, и синей печатью «ДЕПАРТАМЕНТ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК» в верхнем углу. Листая книгу, я заметил, что кто-то – надо полагать, мой дед – черным маркером вымарал некоторые слова. Я поднес книгу к ночнику и посмотрел испорченные страницы на просвет. На всех были замазаны упоминания одного человека: Вернера фон Брауна[10 - Дед всегда выказывал демонстративное презрение к Вернеру фон Брауну, говорил, что тот был одним из прообразов тайного фашиста доктора Стрейнджлава у Сазерна и Кубрика*. Упоминая фон Брауна или зачитывая его высказывания в газете, дед изображал карикатурный немецкий акцент. Компания моего деда «Эм-Эр-Икс» разрабатывала ракеты для «Эстес», «Сенчури» и «Шейбон сайнтифик» и большей части других ведущих фирм в эпоху расцвета реактивных моделей. Разработки «Эм-Эр-Икс» основывались на таких знаменитых американски
Страница 20
ракетах, как «Авангард», «Тор», «Титан», но никогда за десять с небольшим лет существования своей фирмы дед не копировал ракеты класса «Редстоун», «Юпитер» или «Сатурн», созданные фон Брауном. Молчаливый бойкот продолжался даже в эру «Аполлонов», когда всем хотелось запустить «Сатурн V». И дед изумил и озадачил моих родителей и меня, когда 20 июля 1969 года, после того как с растущим волнением и радостью ждал высадки человека на Луне, внезапно отказался смотреть с нами и почти со всем человечеством, как Нейл Армстронг исполняет общую мечту деда и фон Брауна. Только бабушка не удивилась, когда дед молча вышел из комнаты. Я помню, как она сказала, кивнув в сторону телевизора: «Видимо, они всё сделали не так».* «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу» (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964) – черная комедия режиссера Стэнли Кубрика по сценарию писателя Терри Сазерна, сатира на военные программы США и гонку вооружений в целом.].2. Зажигалку «Зиппо», которую дед носил в правом кармане брюк, сколько я себя помню. Она называлась зажигалкой Ауэнбаха. Дед бросил курить до моего рождения, но я много раз видел, как он запаливал зажигалкой Ауэнбаха дрова в камине, костры или мангалы. На гладком овале, вставленном в никелированный корпус, зашкуренный, чтобы скрыть царапины, можно было различить полустертое изображение органической молекулы: два соединенных шестиугольника, в вершинах которых стояли буковки «С», «Н» и «О». В детстве я несколько раз спрашивал деда, что означает молекула, но его ответ («Мальтоза»), как и объяснение («Потому что из-за нее пончики вкусные»), казался мне чушью и ничего не растолковывал – тем более что дед не любил пончиков, – и я в конечном счете решил, что он надо мной шутит. Что до названия зажигалки, дед сказал лишь, что Ауэнбах был его фронтовым товарищем.
3. Черно-белую фотографию моей мамы, снятую в августе 1958-го. На снимке она сидит без седла на тощей серой лошади. На маме пляжное полотенце, обернутое, как набедренная повязка, поверх закрытого купальника, под которым видны формы, чересчур рискованные для девочки, не достигшей еще шестнадцати лет. И она, и лошадь развернуты под углом к фотографу, влево. Мама держит натянутый лук со стрелой на тетиве и готовится поразить какую-то цель за кадром. Я ни разу не видел этого снимка, пока не обнаружил его среди дедушкиных вещей. И он, и мама ничего не сказали про фотографию, кроме того, что она сделана рядом с гостиницей на виргинском побережье в то время, когда мама жила у дяди Рэя. Волосы у нее встрепанные, а выражение, с которым она целится, показалось мне кровожадным.
4. Макет «лунного сада» на крышке от пластикового кофейного стаканчика, собранный из деталек от моделей самолетов и танков, десятка маленьких конденсаторов и четырех звеньев от металлического ремешка наручных часов, выкрашенных светло-серебристой аэрозольной краской. Макет был частью ЛАВ-1 – миниатюрной модели лунного поселения, которую дед строил и переделывал все годы после смерти бабушки. ЛАВ-1 со своими туннелями, отсеками, антеннами и куполами на испещренной кратерами лунной поверхности занимал почти весь обеденный стол в дедовом флоридском домике. «Он захотел взять только лунный сад, – сказала мне мама. – Пришлось выковырять его из остального макета».
5. Пресс-фото последней команды космического челнока «Челленджер» в рамке под оргстеклом. На снимке астронавты Майкл Дж. Смит, Дик Скоби и Рональд Макнейр сидят за столом; шлемы лежат перед ними, словно круглые лототроны, из которых они собираются вытянуть счастливые номера. За спиной у них, со шлемами в руках, стоят Эллисон Онидзука, Криста Маколифф, Грегори Джарвис и Джудит Резник. Летные костюмы команды, как и скатерть на столе, – оттенков флоридского неба, в котором им вскоре предстоит погибнуть. Семь улыбок всегда казались мне злой насмешкой. На одном конце стола, словно череп на натюрморте, – модель «Челленджера» без топливного бака и ускорителей. На фотографии она кажется игрушкой, пусть и превосходно сделанной. Трудно рассмотреть мелкие детали, которыми снабдил ее мой дед, например, что грузовой люк открывается и виден дистанционный манипулятор или что сопла поворачиваются. Можно было открыть фюзеляж и заглянуть в кабину, выполненную с точностью до кнопок на приборной панели и «занавески Салли Райд» перед унитазом[27 - …и «занавески Салли Райд» перед унитазом. – Салли Кирстен Райд (1951–2012) – первая американская женщина-астронавт. Небольшая занавеска-ширма перед санузлом на космическом корабле носит ее имя, поскольку до появления на борту женщины астронавты обходились без занавесочек.].
Дед, наверное, собрался бы на запуск 28 января 1986-го, даже если бы НАСА не выбрало его макет для официального пресс-фото. Он был завсегдатаем мыса Канаверал, приезжал почти на все запуски шаттлов, словно пытался наверстать мучительный для себя бойкот «Аполлонов». Однако тот вторник совпал с одиннадцатым ярцайтом[28 - Ярцайт – годовщина смерти
Страница 21
идиш).] бабушкиной смерти. В 11:39, когда повредилось уплотнительное кольцо и «Челленджер» начал разваливаться на куски, дед стоял у бабушкиной могилы в Дженкинтауне, штат Пенсильвания. О катастрофе он узнал, только добравшись до мотеля и включив телевизор.Он сидел неподвижно, не моргая и не дыша, глядя, как на стебельке пара распускается огненный цветок. Тогда и в последующих повторах он видел, как обломки корабля мечутся в небе, будто слепо отыскивая друг друга в синеве.
Услышав новость, я – в то время аспирант Калифорнийского университета в Ирвине – сразу позвонил маме и узнал, где дед. Я ожидал услышать в трубке его расстроенный, даже убитый голос, но мне следовало бы лучше знать своего деда.
– Слишком холодно! – сказал он. – Тридцать шесть градусов при запуске[29 - Тридцать шесть градусов при запуске. – 36 °F – примерно –2 °C. Инженеры, знавшие конструктивные недочеты челнока, предупреждали, что проводить запуск при такой температуре опасно, однако он откладывался уже несколько раз, и руководство НАСА не согласилось на новую задержку. Из-за холода уплотнительные кольца твердотопливных ускорителей потеряли эластичность, что привело к разгерметизации и утечке горячих газов, которая повлекла за собой отрыв топливного бака и разрушение челнока.]. Бюрократы безмозглые.
– Почему не отложили запуск?
– Потому что бумажные крысы так решили. Джуди знала, что не надо стартовать в такую погоду.
Астронавтка Джудит Резник была любимицей моего деда. Блистательный инженер, она в предыдущей миссии стала первой еврейкой в космосе. Ее роскошные курчавые волосы колыхались в невесомости, как медуза.
– Бедная Джуди, – сказал дед.
Я слышал в трубке, как телекорреспондент силится перекричать ветер на флоридском побережье.
– Жалко, я не смог к тебе приехать, – сказал я. – Как там было?
– Как было на кладбище?
– Извини, глупый вопрос.
– Там было очень весело.
– Прости меня, пожалуйста.
– Да? Могила не прибрана. Страшно смотреть.
В телевизоре мотеля завывал ветер.
– Дедушка? Ты здесь?
– Да.
– Все нормально?
– Нет.
– Я знаю, тебе без нее плохо. Как бы я хотел, чтобы она еще была с нами.
– Хорошо, что ее с нами нет. Если бы она увидела, в каком состоянии могила, она бы разозлилась и обвинила меня. Потому что я выбрал кладбище.
– Ох.
– Потому что все остальные уже лежат там и за место давно заплачено.
Я понимал, дед на самом деле вовсе не радуется, что бабушка умерла. Ему ее очень не хватало. Я не знал, потому что тогда он мне не говорил, что в кабине его модели «Челленджера» одна из ребристых панелей спальных ниш открывается на петлях и можно увидеть две миниатюрные фигурки. Они были первыми обитателями лунного сада ЛАВ-1, пока дед не расширил его функции. Мужчина и женщина, в пять восьмых дюйма высотой, лежали голые в спальной нише, крепко обнимая друг друга[11 - Участники пикника (без одеяла и транзисторного приемника) из британского набора для игрушечной железной дороги масштаба 1:76,2 «Вечер в парке».]. Мужчина распластался на женщине, как щит; ее длинные волосы были выкрашены в яркий оттенок золотистого.
Дед так и не рассказал, в чем смысл его «пасхалки», – по крайней мере, мне. Может, это была шутка, может, дед, у которого не пропадало ничто, будь то пустая могила и набор для склейки за три доллара девяносто девять центов, просто экономил. Теперь, глядя на снимок миссии «Челленджера», я не вижу семерых улыбающихся астронавтов, не вижу красавицу Джудит Резник, не вижу даже саму модель. Только спрятанных любовников, чьи судьбы переплетены, как тела, ждущих свободы от земного тяготения, которое удерживало их всю жизнь.
* * *
Она тронула его ногу, и он проснулся. Мир вокруг был его спальней, а не тюремной камерой. Бабушка снимала юбку и свитер с крючка, на который аккуратно их повесила.
– Десять минут, – сказала она.
Дед надел хлопчатобумажные штаны с голубой домашней рубашкой и пошел вниз, искать заляпанные грязью рабочие башмаки. Бабушка отправилась на кухню, где тушился петух в вине. Она стояла у плиты, нагнувшись над деревянной ложкой, от которой шел пар, и дед, подойдя, коснулся губами ее шеи. По бабушкиному телу пробежала дрожь. Дед чувствовал, что она ждет каких-то слов. Они еще почти не разговаривали, и он не знал, что должен сказать и что нужно услышать бабушке. Больше всего ему хотелось вообще промолчать. Бессильный исправить то, что уже сделал, или предотвратить то, что должно было последовать, он, по обыкновению, прибег к ничего не значащим словам.
– Все будет хорошо, – сказал он ей. – У нас все будет хорошо.
Она не стала ни соглашаться, ни спорить. Только попробовала бульон с ложки и неопределенно хмыкнула.
– Иди, – сказала бабушка. – Она ждет, что ты ее встретишь.
Дед с ореховым батончиком наготове вышел к шоссе. Небо прояснилось, обещая хорошую погоду. Чтобы убить время, дед составил астрономический альманах ночей, потерянных в следственной тюрьме. Луна в третьей четверти. Сегодня, поужинав петухом в вине, помыв и
Страница 22
вытерев посуду, они с мамой вернутся к нескончаемым страданиям Оливера Твиста. Он полежит сперва рядом с дочерью, потом с женой, пока их дыхание не станет тихим и медленным, затем поднимется на холм за домом, с телескопом и термосом чая, и на час-другой погрузится в созерцание Моря Спокойствия, Алголя и Денеба, Эридана, реки звезд.– Все будет хорошо, – сказал он вслух.
Подъехал автобус. Мама, тощая, четырнадцатилетняя, спрыгнула со ступеньки и, едва коснувшись ногами земли, бегом бросилась к деду. Он зарылся носом в ее волосы и вдохнул запах школы – такой же, как от почтовой марки. Хотя мама понимала, что не надо, он уговорил ее съесть весь батончик по пути к дому до масличного ореха, который вздымал ветки к небу, ожидая следующего бабушкиного покушения на свою жизнь.
Батончик перебил маме аппетит, но, чтобы не выдавать деда и ради мира в семье, она заставила себя съесть все, что ей положили.
VI
Мой дед впервые увидел мою бабушку в феврале сорок седьмого, в синагоге Агавас-Шолом[12 - На ее новом месте на Рэйстерстаун-роуд в Пайксвилле. Агавас-Шолом была в числе первых крупных синагог, переместившихся из довоенного сердца еврейского Балтимора на окраину за Севн-Майл-лейн.]. Она, в лисьей горжетке и темных очках, стояла рядом с пальмой в кадке под длинным полотнищем с надписью: «Испытай судьбу!» Горжетку ей одолжила председательница женского клуба. Очки бесплатно предоставил муж председательницы, окулист, для лечения фотофобии, вызванной хроническим недоеданием. Насколько я понимаю, текст, написанный на простыне, – часть убранства «Вечера в Монте-Карло» – был чистым совпадением. В отличие от позиции, вполне просчитанной.
Не советуясь с ней, женский клуб счел, что бабушка, вывезенная в Балтимор из австрийского концлагеря, – пусть и вдова с четырехлетней дочкой – идеальная жена для нового раввина. Благотворительные буфеты Общества помощи еврейским иммигрантам и кухни на Парк-Серкл и Форест-Парк сделали все, чтобы бабушка восстановила фигуру, цвет лица и то, что председательница называла ее «умопомрачительной шевелюрой». Бабушка была воспитанна, разбиралась в литературе и живописи. Говорили, что она хочет стать актрисой и обладает нужным для этого талантом. Кошачье личико и французский акцент, из-за которого бабушку не всегда можно было понять, позволяли многим сравнивать ее с Симоной Симон[30 - …позволяли многим сравнивать ее с Симоной Симон. – Симона Тереза Фернанда Симон (1910–2005) – французская киноактриса еврейско-итальянского происхождения, во время войны жила в США и снималась в Голливуде.]. Несмотря на страдания и утраты, она была улыбчива и часто смеялась. У нее была осанка актрисы и смиренная походка монастырской воспитанницы.
Да, изредка она произносила что-то, лишенное всякого смысла и на английском, и на французском. А если не улыбалась, то напряженно замолкала и как будто прислушивалась к шагам за дверью, разглядывала тени в углу. И когда ее впервые привели в Балтиморскую публичную библиотеку, направилась прямиком к записям шотландской народной музыки. Первые две странности списывали на плохое знание английского и на пережитые испытания. (Любовь к волынкам никто объяснить не мог.) То, что рядом с нею иногда ощущалось странное потрескивание, как возле электрического трансформатора, по мнению участниц клуба (и части их мужей), лишь добавляло бабушкиному шарму загадочности.
Новый раввин, недавно окончивший с отличием еврейскую богословскую семинарию, очаровал всех своим блеском, превосходными костюмами и неожиданным для раввина легким ароматом гардений. Одно в нем огорчало – некоторая склонность к своеволию. Всю жизнь он был гордостью родителей и учителей, так что привык собственные мнения предпочитать чужим, даже в вопросах, в которых ничего не смыслил, – например, на ком ему жениться. Все попытки сосватать ему подходящую девушку заканчивались ничем. Женский клуб провел совещание и санкционировал хитрость.
Чтобы молодой раввин точно увидел бабушку, сразу как войдет в назначенное время, ее поставили у кадки с арендованной пальмой прямо у входа в банкетный зал синагоги. Две участницы клуба должны были следить, чтобы она не ушла. Миссис Ваксман, жена судьи, в свое время помогла ей получить статус беженки. Миссис Цельнер, одна из первых еврейских выпускниц колледжа Брин-Мор[31 - …одна из первых еврейских выпускниц колледжа Брин-Мор… – Колледж Брин-Мор – частный женский гуманитарный университет в Пенсильвании; основан в 1885 году квакерами и входит в число семи старейших и наиболее престижных женских колледжей на Восточном побережье США.], прекрасно говорила по-французски. Играя на бабушкиной признательности и желании говорить на родном языке, дамы намеревались удерживать ее у пальмы, пока не появится раввин, чтобы – и в этом был главный пункт их стратегии – тот в дальнейшем думал, будто нашел будущую невесту сам.
Раввин опаздывал. Зал наполнялся гостями, не ведающими о маневрах женского клуба. Все они хотели, чтобы праздник скорее начался. Председатель благотворите
Страница 23
ьного фонда поднялся на помост. Он начал вступительную речь, пересыпанную чуть-чуть фривольными каламбурами по поводу взяток и очков, но продолжать не смог, потому что получил от микрофона чувствительный удар током. Председательница женского клуба вытолкнула своего мужа на помост, где маялись от скуки нанятые музыканты – наряженные кубинцами евреи. Окулист сел на корточки рядом с упавшим оратором, пощупал ему пульс и помог расстегнуть воротник. Другие мужчины помогали импровизированными каламбурами на тему шокирующих контактов и тому подобного.Пятнадцатилетний звукотехник пытался найти другой микрофон, в чем ему изрядно мешали беспрерывные понукания мамаши. У стола с молочными закусками возникла давка, подогревшая старые обиды и породившая новые. Тем временем бечевка светской болтовни и школьного французского, которой охотницы на тигра из женского клуба держали на привязи свою козочку, все истончалась. Второй микрофон нашли и проверили. Председателя благотворительного фонда осмотрели и сочли, что он в силах продолжить речь.
– Прошу вас, – подбодрил он всех, кто пришел испытать судьбу, – проигрывайте так много и так часто, как только можете.
Свет приглушили. Вступил танцевальный оркестр, создавая атмосферу дорогого клуба. За ча-ча-ча, гулом разговоров, стуком игральных костей и рулетных шариков надзирательницы уже не могли удерживать мою бабушку. Она достала из одолженной бисерной сумочки пачку «Герберт Тарейтон».
– Здесь очень жарко, – сказала она, не ведая о своем статусе жертвы, но чувствуя напряженность разговора. – Извините, я выйду. Мне хочется полюбоваться Луной.
И тут луна, которая была ближе к ней, – лицо миссис Цельнер – просияла. От радости почтенная дама, возможно, отчасти себя выдала.
– Mais voil? le rabbin![32 - Mais voil? le rabbin! – А вот и раввин! (фр.)] – воскликнула она.
* * *
Весь день мой дед искал предлог не пойти с дядей Рэем на «Вечер в Монте-Карло». Он не готов общаться с «нормальными людьми». Ему трудно говорить с незнакомыми. У него нет денег и приличной одежды. Он не ходит в синагогу. Он будет только мешать брату. Дядя Рэй отметал, разбивал, уничтожал и опровергал все его доводы с апломбом прирожденного диалектика. Он понимает, как трудно вернуться к гражданской жизни, но в конце концов надо просто набрать в грудь воздуха и прыгнуть в воду. Всем, кроме коммивояжеров и тех, кто пристает к людям на автобусных остановках, трудно говорить с незнакомыми. Он охотно ссудит брату деньги, которые тот отдаст из выигрыша или когда сможет. И у него есть отличный блейзер, харрисовский твидовый, который ему широковат в плечах. А синагога по большому счету – просто здание. Великие евреи от Авраама до Гиллеля[33 - Великие евреи от Авраама до Гиллеля… – Гиллель Вавилонянин (75 г. до н. э. – ок. 5–10 н. э.) – видный иудейский законоучитель, автор изречения: «Чего не хочешь себе, не делай другому – в этом вся Тора».] в жизни ее не видели. И все, практически по определению, мешают раввину.
К тому времени, как надо было выезжать, у деда осталась одна карта: затеять ссору, чтобы брат сам расхотел брать его с собой.
На беду, дядя Рэй был такого высокого мнения о своей особе, что задеть его решительно не удавалось. От беспочвенных нападок на себя он отмахивался со смехом. Ни презрительно кислая мина, ни нарочитая медлительность на него не действовали. Но на парковке у синагоги, когда пришло время вылезать из новехонького двухдверного «меркьюри» дяди Рэя – тот уже открыл дверцу, – мой дед от безнадежности внезапно натолкнулся на действенный подход.
Зимой сорок седьмого никто – и уж тем более сам дядя Рэй – не подозревал о ростках неверия, которое впоследствии смутило покой моего двоюродного деда и в конечном счете вынудило его променять синагогу на ипподромы и бильярдные Балтимора, Уилмингтона и Гавр-де-Грейса. Дед, видимо, уловил первые предвестья надвигающегося кризиса. С детства он подозревал, что дядя Рэй разыгрывает «маленького цадика», чтобы угодить сперва родителям, потом еврейскому миру в целом. Братская телепатия направляла руку моего деда, когда тот потянулся к колчану и пустил стрелу.
– Ты не видишь иронии? – спросил он. – «Вечер в Монте-Карло»! Не чувствуешь лицемерия? Вся эта шарашка – и без того уже давным-давно казино, Рэй. Ярмарочный балаган. Помнишь букмекерскую контору над закусочной Пэта? Аферистов из Буффало, которые обчистили Фрэнка Остенберга? Это вы. У вас букмекерская контора. Принимаете ставки на бега, по которым вам не придется платить, потому что вы заранее знаете результат. Фраера приходят, вы забираете их денежки. Обещаете им что – прощенье, вечность, строчку в Божьем гроссбухе? Потом просто сидите и ждете, пока они не откинут копыта. Бормочете над мертвыми дурачками свою абракадабру и закапываете их в землю.
Для моего деда это была очень длинная речь, но чем дальше его несло, тем больше он чувствовал убедительность своих доводов. Дядя Рэй с яростной педантичностью закрыл дверцу и развернулся к деду, задев локтем клаксон. Лицо побагро
Страница 24
ело настолько, что исчезли веснушки.– Как ты смеешь? – многообещающе начал он.
С обнадеживающим проблеском вины в глазах дядя Рэй принялся доказывать деду его неправоту. Он упомянул смиренное благочестие многострадальных отцов и прадедов, добрые дела и намерения своей паствы, веру и мученичество евреев по всему миру, честность и принципиальность раввината. Отсюда он перешел к Маймониду, Хэнку Гринбергу[34 - Отсюда он перешел к Маймониду, Хэнку Гринбергу… – Моисей Маймонид (1135/1138–1204) – талмудист, ученый-энциклопедист и врач; Генри Бенджамин Гринберг по прозвищу Еврейский Молот (1911–1986) – американский бейсболист, первый еврей среди суперзвезд американского спорта.], Моисею и Адонаи. Эффект первого невольного гудка ему, видимо, понравился: для большей убедительности он еще раза два нажал на клаксон, а в какой-то момент так распалился, что забрызгал слюной лацкан харрисовского блейзера, который одолжил моему деду. Однако, дойдя до Господа Сил, дядя Рэй внезапно умолк и сузил глаза. Он понял, что дед не возражает и не спорит. Просто сидит с терпением паука и смотрит, как брат злится.
– Ты меня чуть не подловил. – Дядя Рэй успокоился и говорил размеренным голосом. – Пойдешь сейчас со мной и потом будешь этому рад. А знаешь, откуда я знаю, что ты со мной пойдешь?
– Откуда?
– Потому что это – часть Господнего плана насчет тебя.
– Ой, надо же! У Бога есть для меня план? Давно пора.
Дед месяц как вернулся домой. Он был без работы и в тоске. Его диплом пылился уже шесть лет. Опыт, приобретенный в Европе, не годился ни для каких легальных занятий в мирное время. Возращение в Филадельфию оказалось тягостным и для него, и для родителей. И даже особенно для родителей; больше всего их угнетало открытие, что, несмотря на капитанские погоны и медали за действия, про которые ничего не рассказывал, старший сын по-прежнему их огорчает.
– Все, что прежде с тобой происходило, – части этого плана, – сказал дядя Рэй. – А сегодня они сойдутся и обретут смысл.
– Ты это знаешь?
– Да.
– Бог тебе по блату шепнул.
Дядя Рэй провел рукой по чехлу сиденья под собой. Его гладкое лицо на миг осветила самодовольная усмешка.
– Ну ты и трепло, Рэй!
– Да? Тогда предлагаю пари, – сказал дядя Рэй. В том самом духе, за который дед упрекал его и раввинат в целом, мой двоюродный дедушка указал на дверь, через которую ему со временем предстояло выйти с брауншвейгским кием под мышкой. – Ставлю пятьсот долларов, что ты войдешь в этот шуль[35 - Шуль – синагога (идиш).], и в первые полчаса – нет, в первые десять минут тебе откроется план Всевышнего касательно твоей жизни. Причину, по которой тебе надо было сегодня сюда приехать.
– Идет, – сказал мой дед. – Братец, ты рехнулся.
Выходное пособие ему так и не заплатили из-за бюрократических проволочек. У него даже близко не было пятисот долларов, но он счел, что дело практически верное.
Бабушка повернулась к дверям, чтобы взглянуть на свежеиспеченного царька еврейского Балтимора. Она успела заметить стройного молодого человека в темно-синем блейзере с пуговицами, как золотые монеты. Рыжие волосы под бархатной ермолкой (тоже темно-синей) были на полдюйма длиннее, чем надо. Едва он вошел, его окружили несколько мужчин (в том числе судья Ваксман). С поддразниваниями и чрезмерной опекой, словно дядюшки, ведущие юного племянника в бордель, они увлекли его прочь. Миссис Ваксман что-то прошипела на идише: то ли ругательство, то ли описание, что ждет ее мужа дома.
– Не знаю, – услышала бабушка слова раввина. Он притворно ломался, позволяя за руки тянуть его в зал. – Господа, меня терзают сомнения.
Когда он, благоухая гарденией, мелькнул мимо бабушки, она услышала, как он извиняется за опоздание:
– Я не виноват. Это все мой гость.
– Его брат, – пояснила миссис Цельнер чуть неуверенно, как будто увиденное не вполне сходилось с описаниями. – Орденоносный герой войны.
Бабушка увидела деда. Он стоял в коридоре, как будто терзался сомнениями куда более серьезными, чем у брата. Руки он вдвинул в карманы так яростно, что молния на ширинке немного разошлась. Галстук на нем был завязан плохо, твидовый блейзер поверх неглаженой рубашки жал в плечах. Всё – музыка, свет, стук рулетки и костей, взрывы радости или огорчения из-за столов, одежда, собственная кожа – казалось, было ему узко. И лишь взгляд нашел путь к бегству. Он выпрыгнул к бабушке из глазниц, словно из окна горящего дома.
– Неприглядный какой-то орденоносец, – заметила миссис Ваксман.
Дед так упирался по дороге, что не подумал, как вести себя на месте. Все оказалось еще хуже, чем он представлял. «Вечер в Монте-Карло»! Усыпанный блестками месяц, десятиваттные звезды, бумажные гвозди?ки и пальмы в кадках: маскировка для механизма, настроенного так, чтобы рано или поздно обобрать всех дочиста. На взгляд моего деда, после войны – топорная, но в целом точная модель мира, известного ему по опыту.
Он чуть продвинулся в зал, засунув руки в карманы рабочих штанов, и опустил голову, ч
Страница 25
обы не видеть аляповатую мишуру, непотребство своей не тронутой войной родины и соотечественников, непотребство Балтимора с его тридцатью тысячами сытых евреев.Прямо к нему шла девушка в черном платье. Ему давно не случалось говорить с привлекательной женщиной, которая не была бы в каком-то смысле его врагом или шлюхой.
– Я не был к ней готов, – рассказывал он мне. – Она застала меня врасплох.
На ней были темные очки в помещении, вечером. На плечах – облезлая лиса, запустившая зубы в себя саму. Женщина шла уверенно, но чуть бочком, склонив голову набок, будто лишь на восемьдесят пять процентов уверена, что они раньше встречались, и готова признать ошибку. Между лисьей горжеткой и вырезом-«лодочкой» (платье для коктейля дала на вечер дочка председательницы) сияла белая ключица.
Дед слышал, как миссис Ваксман и миссис Цельнер безутешно окликают бабушку, пока та преодолевала последние двадцать футов по линолеуму с рисунком под паркет. Он отметил мерное колыхание ее бедер, амплитуду изгибов, выдаваемую покроем платья. За время войны он привык полагаться на свое умение бильярдного каталы быстро читать в чужих глазах, и темные очки выбивали его из колеи. Они были совершенно ни к чему. Он подумал, что, может быть, это реквизит для сценки на тему «Вечера в Монте-Карло». Неожиданно для себя дед понял, что улыбается, отчего смутился еще больше. Помада на ее губах была алая, словно карточные червы и бубны, улыбка – точь-в-точь как у Ингрид Бергман[13 - Зубы ей с великим трудом восстановил дантист на Либерти-Хайтс, который позже, выйдя на пенсию, переселился во Флориду, где как-то пришел на мое выступление перед читателями в «Букс & букс» и рассказал, что так до конца не оправился от шока при виде тогдашнего бабушкиного рта.], в пандан к темным очкам. У деда в голове раздался звук, который он много лет спустя сравнил с грохотом проезжающего товарняка. Он чувствовал, что стоит на пути у чего-то огромного и стремительного, готового смести его, не видя. «Наповал, – подумал он про себя. – Такие дела». В последний миг он успел перевести взгляд на носки ботинок и тряхнуть головой.
– Невероятно, – проговорил дед, сознавая, что все еще улыбается и что должен брату пятьсот баксов.
* * *
Под навесом крыши во внутреннем дворике своего дома мама приладила кормушку: плексигласовую трубу на цепи. В трубу мама насыпала корм, птицы садились на алюминиевую жердочку под отверстием и клевали. Дед любил смотреть на деловитую суету за окном. Особенно его занимала белка, которую он называл «мамзер»[36 - Особенно его занимала белка, которую он называл «мамзер». – Мамзер (иврит) – внебрачный сын замужней еврейки; в переносном значении – хитрец, прохвост.]. Мамзер каждый день прибегал поживиться кормом, однако у него не было ни грации, ни птичьей легкости, ни ума. Распугав воробьев, он брался за дело с яростной, но бестолковой решимостью, очень смешившей деда. Мамзер был подвержен закону тяготения и принципу маятника, которыми птицы запросто могли пренебречь. Запрыгнув на крышу с цветочной решетки, он целеустремленно спускался по цепи, но через минуту уже болтался, цепляясь передними лапами за шесток или за донышко трубы и бешено махая хвостом, а кормушка дергалась и крутилась, норовя его скинуть. Видимо, дед так и не изгнал до конца беса, побудившего его выбросить котенка из окна третьего этажа: он разражался смехом каждый раз, как белка с металлическим стуком плюхалась на каменные плиты. Иногда он смеялся так, что мне приходилось бумажным носовым платком вытирать ему слезы.
– Тетки из женского клуба… Насы?пали зернышек, чтобы приманить чижика. А поймали мамзера.
Если верить деду, первые бабушкины слова будущему мужу были: «Твоя голова хорошо смотрелась бы на заборе».
Она подходила к нему, держа двумя пальцами незажженную сигарету и чуть выгнув едва видную над темными очками бровь. По мимике и по чему-то еще – по непосредственности без тени вульгарности – дед сразу угадал в ней иностранку. Он поднес зажигалку Ауэнбаха к ее сигарете.
– Извини? – Дед задержал пламя зажигалки перед самым кончиком сигареты. Мысленно повторил фразу. Решил, что не ослышался и девушка правда сказала, что его голова хорошо смотрелась бы на заборе. – Это как?
Дед видел человеческие головы, отделенные от тела, в разных неподходящих местах – не на заборе, правда, – но никогда не думал, что они могут быть зачином для беседы. Он не видел бабушкиных глаз и не мог понять, в каком духе произнесено замечание. Только потом до него дошло, что она, в своей странноватой манере, разрешила проблему разговора с незнакомцами.
– Ой, я неправильно сказала. Вижу, ты обиделся.
– Это мое обычное выражение лица. У тебя бы тоже было такое, если бы кто-нибудь насадил твою голову на забор.
– На стену. – Она грубовато гоготнула и быстро прикрыла рот рукой. – Извини. Я хотела сказать – стену, не забор.
– Это все меняет. – Дедов подход к флирту заключался в том, чтобы сохранять непроницаемую мину.
– Погоди, – сказала она, силясь сдержать
Страница 26
леющий смешок. – Ты когда-нибудь видел… как это у вас… собор?Тремя взмахами белых рук бабушка нарисовала стены, башни и шпили собора. В этих жестах, простых и точных, было то, что поэты и спортивные комментаторы называют изяществом. Когда ее руки взмывали вверх, пепел с сигареты сыпался огненным каскадом. Оранжевые искры отражались в темных стеклах ее очков. Она изобразила витражное окно над входом, нарисовав пальцем кружок на груди, которая и без того уже приковала дедово внимание. Бюстгальтеры той эпохи были творениями зодчества: в ее бюсте, с его масштабами и презрением к гравитации, чудилось что-то от величия готического собора. Тут дед увидел черную татуировку на ее левой руке: историю ее жизни, семьи, мира в пятизначном числе. Он прочел это краткое резюме и устыдился.
– Да, – сказал он. – Я видел соборы.
– На стенах. На древних стенах. Лица на камнях. У тебя такое лицо.
– А, понял. Я похож на горгулью.
– Да! Нет! Не… – Она назвала французское слово для горгульи, которое дед через сорок два года уже не смог вспомнить. – Они для дождя, уроды, страшные, некрасивые. У тебя лицо не такое.
Бабушка отчасти лгала. Позже она созналась одному из своих психиатров, что и впрямь считала деда некрасивым, но всегда находила его уродство привлекательным, даже возбуждающим. Когда он стоял у входа в банкетный зал синагоги, размышляя, не уйти ли сразу, она подумала, что у него американское лицо, американская фигура. Плечи – «бьюик», челюсть – бульдозер. Только всмотревшись в глаза деда, можно было заключить, как заключила она, что он красив.
– Это я похожа на горгулью, – сказала она.
– Ну уж нет.
– Да. Внутри.
Тогда дед счел, что она просто напрашивается на комплимент, и пропустил ее слова мимо ушей: его первая ошибка, первая встреча с Конем Без Кожи, говорящим через бабушку.
– Можно тебя кое о чем попросить? – сказал он. – Не согласилась бы ты снять очки?
Она застыла, сжав алые губы. Дед подумал, что допустил невольную бестактность. Может, попросить француженку снять очки значит нарушить какое-то галльское табу.
– Глазной доктор велел не снимать. – Голос у нее на мгновение сорвался. – Но я сниму. – Последние слова были произнесены почти шепотом.
– Ничего страшного. Не надо. Просто скажи мне, какого цвета у тебя глаза. Это все, что я хотел узнать.
– Нет, – ответила она. – Я сниму для тебя очки. Но ты тоже кое-что для меня сделай. Вернее, позволь мне кое-что сделать.
– Да? А что?
Не знаю, многие ли смотрели на моих деда и бабушку, когда те стояли у входа в зал, и приглядывался ли к ним кто-нибудь. Но даже будь они одни в пустой комнате, подозреваю, ни мой дед, ни нравы сорок седьмого года не предполагали того, что бабушка сделала в следующую минуту. Вспоминая тот вечер из мягкого опиоидного сияния, дед мог только закрыть глаза, как закрыл их тогда, когда бабушка взялась за его ширинку и, зубчик за зубчиком, потянула застежку вверх.
– C’est fait[37 - C’est fait – готово (фр.).], – сказала она.
Когда он разжал веки, то впервые утонул в ее глазах. Они были цвета сумерек в Монте-Карло, когда звезды в небе зажигают свои десятиваттные лампочки и ветер колышет усыпанный блестками шлейф молодой Луны.
– Синие, – сказал дед, опуская голову на подушку арендованной больничной кровати в маминой гостевой спальне. И после этого долго, несколько часов, не открывал глаза.
VII
Ровно к полуночи 29 сентября 1989 года мой дед закончил модель ЛАВ-1. В нее были вложены новейшие представления о поселениях на Луне (отсюда и столько переделок), четырнадцать лет работы и примерно двадцать две тысячи полистироловых деталек из зверски расчлененных наборов для сборки[14 - По большей части моделей военной техники, купленных на распродажах или по оптовой цене.]. В центре макета, среди туннелей, отсеков, куполов, посадочных полос и радарных установок, находилось отверстие четыре дюйма в диаметре. Заглянув в него, вы видели фанерную основу лунной поверхности. На вопрос, зачем оно нужно, дед отвечал тем или иным вариантом «погоди, увидишь»; по правде сказать, вариантов было немного. Через некоторое время я перестал спрашивать – чего он, очевидно, и добивался.
Он подошел к верстаку, взял коробку из-под сигар и достал из нее завернутый в бумажную салфетку круглый предмет, изготовленный из крышки от пластикового кофейного стакана. Дед закончил лунный сад в мае семьдесят пятого, разорив наборы для железной дороги масштаба 1:160 и 1:76,2. Из них он добыл цветы и овощи, которые теперь росли в саду на гидропонике. Сейчас он аккуратно подцепил ногтем крышечку на отверстии для питья, превращенном во входной люк, и заглянул внутрь. Там вместо первых обитателей-любовников жила теперь семья. На подвесной койке и двух подвесных креслах его собственного изготовления, вдыхая увлажненный, обогащенный кислородом воздух, сидели он сам, бабушка, мама, мой брат и я. Позы у них были напряженные (даже для полистироловых человечков), как на парадной фотографии. Все живы-здоровы.
Дед закрыл люк. Отн
Страница 27
с лунный сад к модели ЛАВ-1 и опустил в заранее приготовленное отверстие. У него не было чувства великого свершения. Работа слишком долго оставалась недоделанной, обещание – невыполненным. И чувствовал он главным образом, что сбросил с плеч груз.Это было за полгода до его смерти.
На следующее утро, задолго до зари, дед вышел в непроглядный флоридский мрак, чтобы загрузить багажник «бьюика-лесейбр» для поездки на мыс Канаверал. Запусков не было почти четыре года, с катастрофы «Челленджера». Сегодня в десять утра стартовал новый челнок, «Дискавери». Дед положил в коробку-термос для наживки упаковку сухого льда, бутылку пива «Микелоб», пластмассовый контейнер с нарезанным ананасом и два сэндвича с мясным салатом. Мясной салат был фирменным дедовым блюдом. Пропускаете остатки вчерашнего жареного мяса через мясорубку вместе с маринованными огурчиками, добавляете пару столовых ложек майонеза, соль и перец. Как многие фирменные блюда моего деда, мясной салат на вкус был лучше, чем на вид или по описанию. Мазался он на мягкую халу. Дед убрал коробку-термос в багажник вместе с биноклем, «лейкой» (аппарат был из магазина подержанных товаров, а вот телевик – новехонький), свежим номером «Комментария»[38 - …свежим номером «Комментария»… – «Комментарий» (Commentary) – ежемесячный журнал об иудаизме, политике и культуре, выпускаемый с 1945 года Американским еврейским комитетом.], транзистором, галлоном питьевой воды и складным креслом, у которого была подставка под ноги и зонт от солнца, крепящийся при необходимости к раме. Зонт дед модифицировал сам, хирургически заменив обычную ручку на струбцину.
Как в любом поселке престарелых, в Фонтана-Виллидж были свои полуночники и свои ранние пташки, однако сейчас предрассветное утро полностью принадлежало деду. Прежде чем захлопнуть багажник, он прислонился к заднему бамперу и прислушался к тишине. Она не была полной. Она никогда не бывает полной. Но дед научился ценить то, как усиливают ее слабые далекие звуки, – так капля синей краски усиливает белизну. Стрекот насекомых или, возможно, кваканье лягушек. Фуры на магистрали I-95. Шипение пара в лучах прожекторов. И наконец, фоновое гудение самой Фонтана-Виллидж – гул кондиционеров, автоматов по продаже всякой мелочи, пробок, фильтров в бассейнах, плохо изолированных проводов. Женский голос где-то далеко звал: «Рамон!»
Дед выпрямился. Наклонил голову, выставил ухо – антенну, настроенную на фоновое космическое излучение. Перетасовал тонкую колоду Рамонов, которых встречал. Никто из них не жил в Фонтана-Виллидж. Здесь имелись какие-то кубинцы, иногда с именами вроде Адольфо и Ракель, но все они были такими же евреями, как остальные – Голдманами и Леви, приехавшие в обетованную флоридскую землю из другого русла реки рассеяния. Дед еще не успел толком познакомиться ни с одним кубинским евреем. Кого-то из них вполне могут звать Рамон. Рамон Лифшиц. Рамон Вейнблатт. Иногда какой-нибудь страдающий деменцией бедолага уходил бродить, и тогда жена или сиделка бегала между домами, выкликая его по имени.
– Рамон! Кис-кис-кис!
Голос вроде бы доносился со стороны Джунглей, как обитатели Фонтана-Виллидж называли пустырь, окаймлявший поселок с востока и севера. В Джунглях одичавшая бермудская трава и местные лианы-душители с семидесятых годов вели войну за пятьсот акров земли, где недолгое время был загородный клуб и поле для гольфа. Где-то в зарослях таился известный пожиратель домашних животных, как предполагали – аллигатор.
– Рамо-о-он!
На втором слоге голос женщины дал петуха, как у мальчика, которому справляют бар-мицву. Это был уже не просто крик, а вопль отчаяния.
Дедушка взглянул на часы, которые носил циферблатом на запястье. Было уже больше половины шестого. На дорогу требовалось три с половиной часа – четыре, если остановиться залить бензина и забежать в туалет. О возобновлении полетов много писали в газетах и говорили по радио, так что на дороге могли возникнуть пробки. Выезжать надо было прямо сейчас.
– Черт бы тебя побрал, дамочка, – сказал дед.
Не отдавая себе отчета, что делает, он вытащил ящик с набором для ремонта шин и достал торцевой гаечный ключ. Захлопнул крышку багажника. Она стукнула глухо, как литавры в сырую погоду.
Дед, нервно стискивая гаечный ключ, прошел через стоянку к темной дорожке, на которой лежали редкие круги света от фонарей. Направо она вела к одному из плавательных бассейнов, налево – мимо жилых домиков, включая его собственный, к служебной зоне, где была станция зарядки гольф-каров, на которых старички передвигались по поселку. За служебной зоной начиналась запущенная лужайка, обнесенная с дальней стороны деревянной оградой высотой примерно в фут. По дальнюю сторону ограды цивилизация заканчивалась.
Дедовы кожаные сандалии, поддельные биркенштоки израильского производства, зло шлепали по асфальту. Он досадовал на Рамона, которого представлял тощим и косоглазым. Понесло его в Джунгли на собственную смерть за крысой или нутрией! Досадовал на хозяйку Рамона, которая в
Страница 28
шла искать кота в кромешной тьме, когда все равно ничего не сделаешь. Сделать ничего было нельзя, и все равно дед шел к ней, поэтому больше всего досадовал на собственную глупость. Он поймал себя на том, что надеется и впрямь встретить на краю Джунглей аллигатора, чтобы забить его до смерти гаечным ключом, который – понимал теперь дед – ровно с этой целью и вынул из багажника.Дорожка вывела его к северной лужайке. При каждом шаге капельки холодной росы обжигали щиколотки. Дед был в защитного цвета шортах, которые купил в «Кеймарте», – сразу семь штук одинаковых. Вместе с семью рубашками поло и семью парами белых носков (он всегда носил сандалии с носками) они составляли его ежедневную форму со времени бабушкиной смерти. На дни рождения и на мероприятия, от которых не мог отвертеться, дед приходил в гавайке с гологрудыми девицами, которую я подарил ему в шутку. Некоторых соседей она приводила в ужас, но дед не дорожил мнением людей, которых может возмутить рубашка.
Здесь, за служебной зоной, было совсем темно. Дед чиркнул зажигалкой Ауэнбаха. Свет почти не пробивался сквозь капельки тумана в воздухе. Ореол вокруг дедовой руки был как огонь святого Эльма.
– Кто здесь? – спросила женщина.
– Сосед.
Зажигалка в руке нагрелась, и дед ее захлопнул. В темноте плыли огненные пятна от погасшего пламени. Потом глаза привыкли, и дед понял, что может видеть. Рассвет во Флориде наступает стремительно: еще десять минут, и будет утро.
– Миссис Винокур говорит, что видела его. Она зовет его Алистером, – сказала женщина, которая представилась как Салли Зихель. – Как ты думаешь, он правда есть?
– Кто-то есть, – ответил дед, не склонный обманывать людей лживыми утешениями. Он считал, что Филлис Винокур – врушка, но сомневался, что коты и болонки Фонтана-Виллидж убегают за ограду в поисках свободы и живут там вместе, словно четвероногие семинолы[39 - …словно четвероногие семинолы. – Семинолы – индейское племя, возникшее из объединения флоридских индейцев, не сдавшихся властям США, и бежавших с плантаций чернокожих рабов. Само название «семинолы» – искаженное испанское слово, означающее «беглецы», «дикие».]. – Как он убежал?
– Я, дура, сама отпустила. Пожалела его. Дома он гулял свободно. Мы с ним сюда перебрались не так давно.
– А дом где?
– Филадельфия.
Деду хотелось заметить, что в Филадельфии с котами тоже приключаются несчастья, но пришлось бы объяснять. Он уже давно ничего не пытался объяснить женщине, и задача представлялась неподъемной.
– Где там?
– Брин-Мор.
– Брин-Мор не Филадельфия.
– Ага, – сказала она. – Да, я слышу это по твоему выговору.
Было уже заметно светлей, и дед видел, что Салли Зихель привлекательная женщина, высокая, стройная, но с большим бюстом. Смуглая кожа, длинный нос с горбинкой, скулы почти как у Кэтрин Хепберн. Может, года на два моложе его, может – нет. На ней была мужская пижама и незашнурованные полусапожки с нижней частью вроде галош, цвета нью-йоркских такси.
– Он обычно приходит на зов?
– Всегда.
– И давно его нет?
– Всю ночь.
– Хм.
– Мне, наверное, не стоило бы говорить такое человеку, с которым только что познакомилась, – сказала Салли Зихель, – но этот паскудный кошак – практически единственный смысл моей жизни.
Деда подмывало ответить что-нибудь вроде: «В таком случае, может, не стоило его отпускать на съедение рептилии в полтонны весом» или «Да ладно тебе, это всего лишь кот». Он скорректировал в худшую сторону первое благоприятное впечатление – впечатление, к которому примешивалось почти забытое и оттого совершенно неожиданное желание. Да и вообще, надо быть осторожнее с женщинами, которые выходят из дому, не зашнуровав обувь.
– Я знаю, что ты думаешь, – сказала она. – Это всего лишь кот.
– Вовсе нет.
– Просто я недавно похоронила мужа. А Рамон был, вообще-то, его кот.
– Ясно.
– Они очень дружили.
– Понятно, – ответил мой дед. – А я похоронил жену.
– Давно?
– Четырнадцать лет назад.
– А. Извини.
Салли заплакала. Она стояла в пижаме, обхватив себя руками под великолепной грудью. Смотрела на Джунгли, поглотившие мужниного кота. По щекам потекли слезы. Она шмыгнула носом. Дед достал из заднего кармана шортов кусок ветоши, которым обычно протирал объектив фотоаппарата, и протянул Салли.
– Ой, – сказала она, сморкаясь в ветошь.
Дед вспомнил – столько же пахом, сколько умом и сердцем, – цирковую девушку, которая раздвинула для него ноги в домике на Гринвичской станции. Окровавленную ветошь в ее кулаке.
– Какой ты рыцарь! Спасибо.
Он знал, что рыцарственно было бы обнять Салли Зихель за плечи. И не просто рыцарственно – человечно. Однако он боялся вероятного развития события. Вдовец и вдова помогают друг другу забыть горе в приступе поздней страсти. Это было настолько банально и пошло, что казалось почти неизбежным.
С тех пор как дед перебрался сюда в середине семидесятых, одинокие женщины Фонтана-Виллидж старались его заарканить. Пока он собирал красивые и дорогие макеты по зака
Страница 29
у НАСА и частных коллекционеров, а ЛАВ-1 на обеденном столе усложнялся и рос, одинокие женщины Фонтана-Виллидж присылали разведчиков и послов, домашнее печенье и тортики, суп в кастрюльках, картофельные латкесы на Хануку, открытки, вязаные шарфы, стихи, картины маслом, отбивные, бутылки вина и тарелки макарон с сыром. Я как раз был у деда, когда принесли макароны с сыром, и счел их убедительным аргументом в пользу автора, которая приложила к ним рецепт, разработанный на основе того же блюда в «Хорн и Хардарт»[40 - …разработанный на основе того же блюда в «Хорн и Хардарт». – «Horn & Hardart» – кафетерии-автоматы, очень популярные в США с 1910-х до 1970-х годов; позже их вытеснили фастфуды.].Дед облизывал вилку, погрузившись в воспоминания о кафетерии-автомате на Брод-стрит, и мне подумалось, что таким довольным я не видел его давно. Тем не менее он вымыл и вытер миску, а потом оставил ее, вместе с благодарственной запиской, на заднем крыльце дарительницы, когда точно знал, что ее нет дома. Изредка одинокие и особенно настырные женщины Фонтана-Виллидж ловили его и зазывали на обед. В таких случаях он сдавался перед натиском, просто потому, что отнекиваться было сложнее, чем согласиться. Приглашения более личного свойства, иногда заманчивые, иногда сделанные с восхищавшей его прямотой, дед неизменно отклонял.
Не то что он дал обет воздержания. Ему не хватало теплого тела рядом. Управляющая Фонтана-Виллидж Карен Радвин умела в разговоре так тронуть тебя за локоть или за плечо, что старые ощущения иногда пробуждались. И все же, если не считать одной ночи в Коко-Бич в апреле семьдесят пятого, мой дед со смерти бабушки не прикасался к женщинам.
Причины можно назвать такие, сякие и эдакие, но в итоге все сводилось к одному: он не любил разговаривать. Не любил объяснять. Бабушка иногда жаловалась на его неразговорчивость, но только в компании, когда начинался общий треп, шуточки, обсуждение Агню или Сондхайма[41 - …обсуждение Агню или Сондхайма… – Спиро Теодор Агню (1918–1996) – вице-президент США в 1969–1973 годы. Избирался вместе с Никсоном на два срока в 1968-м и 1972-м, на выборах 1976 года планировал баллотироваться в президенты, однако летом 1973-го оказался в центре крупного скандала: вскрылись его финансовые злоупотребления (уклонение от налогов, взятки), и началось судебное разбирательство. Стивен Джошуа Сондхайм (р. 1930) – американский композитор и поэт, автор многих бродвейских мюзиклов.], и она боялась, что молчание деда примут за недовольство или тупость. «Не беспокойтесь, – говорила она, – он вообще такой. Любой наш спор заканчивается тем, что говорю я одна. Некоторые мужья играют в казино, мой играет в молчанку». Потом клала ему руку на колено и добавляла, успокаивая, возможно, не столько собеседников, сколько себя: «Зато он умеет слушать». На шестнадцатом году брака – примерно в то время, когда появился я, – дед уже ничего не мог сказать ей такого, чего бы она не знала. И это его вполне устраивало.
Так что он не обнял Салли Зихель за плечи. А чтобы не было соблазна, переложил в правую руку гаечный ключ. В качестве балласта.
Салли Зихель подошла к низкой ограде, сложила ладони рупором и завопила: «РАМОООООООН!» С ближайшего куста испуганно вспорхнула желтая птица. Салли продолжала тянуть срывающееся «О». В ближайших к Джунглям домиках зажегся свет; люди звонили на пост охраны. Дед очень давно не слышал такого женского крика, вернее, ора. Салли Зихель орала в точности как разозленная старшая сестра на Шанк-стрит, которой велели позвать к ужину загулявшегося брата. Когда эхо умолкло, Салли Зихель опустила руки, отошла от деревянной ограды и повернулась к деду. Вид у нее был чуть смущенный, но не очень. Теперь, на свету, дед видел морщины на ее лице, темные круги под глазами, жесткую линию рта, как будто она закусила что-то твердое. И все равно красивая женщина.
Салли Зихель сложила ветошь, разгладила на выпуклости бедра, еще раз сложила и снова разгладила. Протянула деду, и тот убрал тряпку в задний карман шортов.
– Чертов аллигатор, – сказала Салли. – Надеюсь, он подавился Рамоном.
За это дед поставил ей галочку.
– Давай я с этим разберусь, – сказал он.
Салли Зихель отступила на шаг и еще раз внимательно оглядела моего деда. Видимо, ее первое впечатление требовало корректировки в положительную сторону. Без сомнения, она приметила мешковатые шорты, сандалии на носки, розовую рубашку, украшенную – как будто из участия к судьбе Рамона – изображением прыгающей лисы (или собаки) вместо традиционного крокодила. Дед походил на престарелого директора летнего сионистского лагеря. Теперь она отметила его волосы, почти совсем белые, не такие густые и курчавые, как в молодости, но все равно вполне эффектные. Отметила загорелые мускулистые руки, широкую грудь, плечи, привыкшие к тяжелому грузу (роялям, и не только). Она лишь сейчас заметила, что новый знакомый зачем-то держит большой гаечный ключ и рефлекторно сжимает его в руке, как будто хочет пустить в ход.
– Разберешься с чем?
Страница 30
– Она засмеялась. Может, горько или даже презрительно, а может, он правда ее насмешил; дед всю жизнь на полном серьезе говорил вещи, которые другим людям, особенно женщинам, казались комичными. – Что ты хотел сказать?Дед удивился вопросу. Более честная формулировка состояла бы в том, что он попробует хорошенько всыпать аллигатору. Но вот так сказать действительно было бы странно. В лучшем случае она приняла бы его за пижона, в худшем – за психопата. А если бы всыпать не удалось, вышло бы пустое хвастовство. Потому так и трудно говорить, особенно правду. Вчера врач показал ему какие-то цифры в анализе крови, которые «немного не в норме» и могут не значить ничего серьезного, а могут значить очень плохое. Врач сказал деду обратиться к специалисту, написал на карточке фамилию и телефон. Карточка лежала в «Комментарии», в обществе карикатуры на Хосни Мубарака.
Деду было семьдесят три. За его жизнь представления о роли и обязанностях мужчины подверглись кардинальному пересмотру. Подобно избирательным законам его нового штата, они теперь представляли собой жуткую кашу из временных средств, конфликтующих принципов, не понятных никому новшеств и пережитков, от которых следовало избавиться давным-давно. И все же посреди современного хаоса сохранялись некоторые незыблемые основы. Представительная демократия – по-прежнему лучший способ управлять большой группой людей. А когда кота, оставшегося соседке от покойного мужа, съедает аллигатор, мужчина должен этим заняться. Даже если он носит сандалии на носки и у него что-то не так с анализом крови.
– Могу узнать, что положено делать с аллигаторами, – сказал дед.
В конце концов с аллигаторами разбираются каждый день самыми разными способами. Их ловят в капканы, усыпляют специальными средствами. Их можно застрелить, освежевать, превратить в мясо и обувь.
– В смысле, если ты хочешь, – добавил он. – Я понимаю, что Рамону это уже не поможет.
Салли Зихель начала было смеяться, но сообразила, что дед не шутит, и осеклась. Щеки у нее вспыхнули, но не от неловкости, потому что она смотрела ему прямо в глаза.
– Почему бы и нет? – сказала она.
Послышался рокот электрокара. Дед глянул в сторону служебной зоны. Девон, ночной сторож, ехал разобраться, что за шум. Он был почти такой же старый, как те, кого ему по должности полагалось охранять. Родился и вырос Девон в той части Флориды, которая на самом деле Джорджия и Алабама. Никто не знал наверняка, белый он или негр – по виду могло быть и то и другое, – а обитатели Фонтана-Виллидж, которые сгоряча вызывались спросить напрямую, так и не собрались с духом это осуществить. В детстве его приучили смотреть на редких еврейских торговцев, проезжавших через деревушку, как на могущественных демонов низшего разряда, с рогами и копытами, так что к обитателям Фонтана-Виллидж он относился с уважительной опаской.
Девон выслушал историю про Рамона и аллигатора, качая головой. Поначалу дед счел, что сторож выражает таким образом сочувствие или ужас. Однако выяснилось, что Девон считает своей обязанностью их просветить.
– Нету никакого лигатора, – сказал он. – Я мисс Радвин уже два года говорю. Видел я его погадки. Я знаю, какие погадки у лигатора и какие у змеи.
– Змея? – спросила Салли Зихель. – Змея, которая может съесть кошку или собаку? Во Флориде такие водятся?
– Наверное, это чей-то сбежавший удав, – сказал дед.
Однажды я был у него в гостях, и мы смотрели на Двенадцатом канале (других дед не признавал) передачу об инвазивных животных видах в Калифорнии: удавах, свиньях, редких аквариумных рыбках и говорящих скворцах, выпущенных или вырвавшихся на волю и составляющих определенную проблему для экологии штата. Передача шла час, но дед напрасно ждал обсуждения того, что же с инвазивными видами делать.
– Если удав, то они вырастают такими большими, что могут съесть оленя или свинью, – добавил он.
Салли Зихель, мой дед и Девон посмотрели на Джунгли. Мысль об огромной змее, способной задушить, а потом проглотить целиком оленя или свинью, холодными кольцами вползала им в душу. Потом Девон включил электрокар и уехал обратно на пост охраны. Пусть дневной сторож беспокоится об исполинских змеях и полоумных старых еврейках, которые бегают и орут, когда все приличные люди спят.
– Кстати, о том, чтобы съесть оленя или свинью, – заметила Салли Зихель. – Я могу поджарить тебе французские гренки.
Дед взглянул на часы, и сердце у него упало. Он совершенно забыл про запуск. Если выехать сию минуту и гнать всю дорогу без остановки, можно было, если повезет, успеть впритык. Он много месяцев, с тех самых пор, как объявили о возобновлении полетов, готовился к поездке в космический центр имени Кеннеди. Он знал имена и звания всех пяти членов экипажа «Дискавери». Мог перечислить темы их дипломов и диссертаций, историю их прошлых полетов, их хобби и увлечения, их личные связи с командой погибшего «Челленджера». Он следил за расследованием катастрофы, вникая во все подробности. В тот мой приезд, когда мы ели такие вкус
Страница 31
ые макароны, дед хотел говорить только об уплотнительных кольцах, керамической плиточной термоизоляции и докторе Ричарде Фейнмане[42 - …плиточной термоизоляции и докторе Ричарде Фейнмане… – Нобелевский лауреат физик Ричард Фейнман (1918–1988) входил в комиссию по расследованию катастрофы «Челленджера».], который всегда именовался полностью, с научным званием. В неутомимом здравом смысле Фейнмана дед видел редкий проблеск надежды для всего мира.Много месяцев он жил с чувством, что решается не только судьба программы космических челноков. На кону стояло все видение будущего, общее для приунывших энтузиастов космических полетов, которым запуск «Дискавери» обещал коллективное духовное возрождение. Сейчас дед понял, что его интерес к гибели «Челленджера» и полету «Дискавери», его одержимость изменениями в твердотопливном ускорителе или винтажным «корветом» коммандера Рика Хаука[43 - …винтажным «корветом» коммандера Рика Хаука… – Фредерик Хэмилтон «Рик» Хаук (р. 1941) – американский астронавт. Совершил три космических полета: в качестве пилота на «Челленджере» (1983) и дважды в качестве командира экипажа на «Дискавери». Увлекается реставрацией старых автомобилей.] не многим лучше чувства Салли Зихель, что единственный смысл ее жизни – заботиться о коте покойного мужа. В таком свете вся затея казалась куда менее увлекательной.
– Я уже поел, – сказал он. – И мне правда пора ехать.
– А, вот почему ты так рано встал. А я гадала. Куда едешь?
Дед снова взглянул на часы. Почти без десяти семь. Темнота предрассветной кухни, гудение электрических часов на стене, звук капающего крана, пока он крутил через мясорубку мясной салат, – казалось, все это было давным-давно.
– Никуда, – ответил он. – Не важно.
– Французские гренки? Все равно не надо? Ладно. Как насчет чашки кофе?
– Не хочу тебя утруждать.
– Обещаю не перетруждаться, – ответила Салли Зихель. – И вообще, у меня такое чувство, что трудности – это по твоей части.
VIII
Некоторое время после дедова выхода из тюрьмы Конь Без Кожи вел себя довольно тихо. Когда муж или дочь были рядом – а дед, безработный и в ожидании суда, почти не отлучался из дому, – бабушка заглушала издевательское ржание потоком болтовни. Если она оставалась одна, то включала очень громко шотландскую народную музыку или марши: по неведомым причинам Конь боялся волынок. Но все время, в компании или в одиночестве, бабушка держала себя в руках, чтобы не смотреть на масличный орех за окном. Если она давала слабину и все-таки смотрела, Конь Без Кожи всякий раз был там: сидел на нижней ветке, скалил зубищи и поглаживал огромный кроваво-красный член.
– Так это все-таки был конь? – спросил я у деда на второй или третий день в мамином доме. – Или человек с лошадиной головой?
– Я его ни разу не видел, – сухо ответил дед. – Наверное, у него были руки.
– И член.
Дед дважды показал мне язык. Он смотрел в окно на туман, окутывающий эвкалипты и туи.
– Член был похож на ободранную индюшачью шею, – сказал дед. – По крайней мере, так она говорила.
Психиатрам, лечившим бабушку в конце пятидесятых, она как-то объяснила свою галлюцинацию тем, что в детстве ее напугала картинка в книжке: Титания и ткач Основа с ослиной головой. В другой раз она сказала, что видела, как ветеринар кастрировал тяжеловоза, в третий описала смешение людей и окровавленных кож на дубильном дворе. В самых своих тяжелых состояниях она утверждала, что ее изнасиловал жеребец или мужчина с конской головой. В бреду времени не существовало, и казалось, насилие продолжается до сих пор, происходит сейчас.
– Она сочиняла самые разные теории, – сказал дед. – Она читала Фрейда и Юнга. Альфреда Адлера, все такое. Говорила врачам то, что, считала, они хотят услышать.
Болезнь бабушки часто приводила деда в бессильную растерянность, но откуда взялся Конь Без Кожи, он вроде бы понимал. Конь Без Кожи неотвязно преследовал бабушку и в самых гадких словах твердил про ее преступления и черноту души. Дед считал, что такой голос есть в голове у каждого, вопрос только в степени. Коня Без Кожи можно даже считать удобной уловкой, стратегией выживания, подтвержденной успешным бабушкиным примером. Если держать голос в голове, как делает большинство, остается лишь один способ и впрямь заставить его умолкнуть. Дед восхищался бабушкиной волей к жизни, тем, как она бессознательно вытеснила обвинителя в угол комнаты, в подвальную топку, на ветки большого старого дерева.
Накануне предварительных слушаний по делу о нападении на директора «Федеркомс» дед взял телескоп, термос с чаем и поднялся на холм, чтобы наблюдать полную Луну. В душе он знал, что Конь где-то близко. Видел признаки. Слышал замечания, вопросы, непонятные изречения жены, которые она обрывала, едва начав. Как-то, подъезжая к дому с опущенным стеклом в машине, он различил призрачный отзвук волынок, а раз поймал бабушку на том, что она, вся красная как рак, отвернулась от окна, выходящего на масличное дерево.
Дед был на холме уже часа два, в
Страница 32
меховой шапке и пендлтоновской куртке, когда в воздухе запахло гарью. Дед отметил запах, не задумавшись, что это и откуда. Мозгом полностью завладел правый глаз и теперь показывал ему чудо: структуру Рейнер Гамма в южной части Океана Бурь.Из всех небесных тел, доступных для наблюдения астроному-любителю, только Луна предстает в таких подробностях, что можно воображать, будто живешь на ней, взбираешься на серебристые горы в семимильных лунных башмаках. Разумеется, дед знал, что Луна не пригодна для жизни. В астрономии он, может, был дилетант, но в конце сороковых – начале пятидесятых работал аэрокосмическим инженером, разрабатывал системы инерциальной навигации и телеметрические датчики сперва в компании Гленна Л. Мартина, затем, недолго, в собственной фирме «Патапско инжиниринг». После того как в пятьдесят втором бабушка первый раз попала в больницу, необходимость в гарантированном заработке вынудила его продать долю в «Патапско»[15 - В шестьдесят втором компания «Мартин» (в то время, когда дед мне это рассказывал, – «Мартин-Мариетта», успешно работающая над ракетой «Титан») приобрела «Патапско» у его бывшего партнера Мильтона Вейнблатта, заплатив, как говорил дед, «примерно в двести раз больше, чем Вейнблатт – мне».]. После этого кризис пятьдесят третьего года, невезенье и – по убеждению деда – мягкий снобистский антисемитизм, характерный для аэрокосмической промышленности, толкали его все ниже по экономической лестнице и, в свободные минуты, все глубже в мир, открываемый линзами телескопа. В фантазии он построил бабушке город на Луне и сбежал туда в ракете вместе с нею и моей мамой.
Сперва это был город под куполом, откуда открывался прекрасный вид с каждым восходом Земли, на которой остались все их беды. С годами, по мере исследований и чтения, конфигурация менялась. Для защиты от космических лучей дед убрал жилища в кратеры и подлунные туннели. Чтобы обеспечить вдоволь солнца, он поместил бабушкин лунный сад на светлое место возле Северного полюса. Однако два принципа, два правила игры сохранялись: на Луне не было капитализма, который размалывает рабочего лунянина в труху. А еще там, в двухстах тридцати тысячах миль от смрада истории, не было сумасшествия и памяти об утратах. Главная трудность межпланетных полетов была в глазах деда и главной их красотой: чтобы достичь космической скорости, бабушка, как всякий звездоплаватель, должна была почти все оставить позади.
Через мгновение после того, как запахло гарью, дед краем глаза уловил мерцающий свет и несколько секунд не обращал на него внимания. И вдруг разом увязал дрожащее оранжевое зарево с запахом дыма. Он поднял взгляд от окуляра, смаргивая призрачный след структуры Рейнер Гамма, белую лучезарную рыбку.
Масличный орех во дворе оделся парусами пламени. Окна напротив домика на дереве зловеще мерцали.
В первую секунду дед не поверил увиденному, во вторую – разозлился на себя. Вернувшись из тюрьмы, он, памятуя про недавний поджог, прочесал весь дом от подвала до чердака, собрал горючие материалы и запер в сарае с инструментами. Однако он ослабил бдительность, так что у жены было время восполнить запас лака для волос, керосина, разбавителя для краски. (Позже выяснилось, что на самом деле она проявила чудеса изобретательности, невольно восхитившей деда: шумовкой забрасывала ватные шарики, смазанные вазелином и подожженные, прямо в домик на дереве, словно комочки греческого огня.)
Вслед за злостью на себя пришла ярость. Упорное безумие жены было личным оскорблением, вызовом. Она в одностороннем порядке перечеркнула два года относительного семейного мира. Дед выкрикнул бабушкино имя с вершины холма, словно Бог, призывающий пророка на гору возмездия. Даже в пятистах футах от рева пламени собственный голос прозвучал в его ушах слабо и жалко. Сама эта слабость усилила его гнев.
Дед спускался с холма, охваченный жаждой мщения. Если бабушка не сгорела, он ее убьет. Как именно – он пока не решил. Надо до нее добраться, а там будет видно, какой метод слаще.
К тому времени, как он спустился к дому, дерево превратилось в оранжевую реактивную струю. По его словам, оно было как комета на старой карте звездного неба. Между ним и деревом висела завеса жара; она опалила ему кончики волос и обожгла щеки так, что следующие три дня они были кирпично-красные. Дед глядел на дрожащий воздух, на рвущееся ввысь пламя. Гнев его улетучился. Ничего не оставалось, кроме как стоять и смотреть.
Моя мама ничего этого не помнила.
– Просто на следующее утро от дерева остался обгорелый ствол, – сказала она. – Как фитиль у свечки.
Она переоделась из брючного костюма в джинсы и водолазку. Ей надо было еще посидеть с документами для иска, но она отложила дела, чтобы повязать деду шапку, – он часто жаловался, что у него мерзнет голова. Шапка была задумана в желто-красную полоску и с зеленым помпоном. Никто бы не хотел умереть в такой шапке, – возможно, в этом и была мамина цель.
Каждый день мама после работы сидела с дедом, пока я готовил ужин и собир
Страница 33
л поднос для больного: миску мармеладных шариков и чашку лимонного чая. Дед сердился, что у него в комнате всегда кто-то есть: я, мама или ночная сиделка. Он понимал: мы боимся, что он умрет, когда рядом никого не будет. Дед пообещал нам, что будет цепляться за жизнь, превозмогая боль, превозмогая первичный рак и метастазы, пока не дождется, что кто-нибудь выйдет в туалет, во входную дверь позвонят и мы, несмотря на все предосторожности, оставим его одного. Тогда, и только тогда он позволит себе умереть.– Бабушка накормила тебя димедролом, – сказал ей дед. – Ты все продрыхла. Думаю, она добавляла его в пудинг. Она всегда так делала, когда тебе не спалось.
В маминых глазах медленно зажглось понимание.
– Ух ты, – сказала она. Ее детские воспоминания были фрагментарны – пустой квадрант космоса, освещенный редкими звездочками. – Я ела очень много пудинга из тапиоки.
Судя по ее лицу, мама заключила, что загадка пробелов в памяти решена, но мне хотелось сказать, что амнезия, вызванная препаратом или душевной травмой, объясняет далеко не все. В частности, остаются непонятными умолчания в маминых рассказах о том, что она помнит. И я, и брат с детства знали, что на судьбу нашей семьи как-то повлиял Элджер Хисс, что дед сидел в тюрьме, а бабушка лежала в психбольнице. Мы знали, что из жизни у дяди Рэя мама вынесла глубокие познания в тотализаторе, несколько хитрых бильярдных приемов и ненависть к бильярдам и скачкам, а также их завсегдатаям. Знания полезные, наверное, но мало что говорящие. Если мамины дети изучали ее молчание, как она изучала молчание своего отца, они должны были усвоить, что это старое народное средство не лечит боль, разве что немного приглушает.
– Где была бабуля? – спросил я. – Пока дерево горело?
Дед глянул на мою маму и высунул язык, словно возмущаясь идиотским вопросом.
– Она смотрела, как горит, – ответил он.
Подобно большинству чудес, пожар оказался недолгим; пламя, исчерпав пищу, угасло, словно задутая свеча. Сама резкость угасания, сказал дед, говорила, насколько яростно огонь пожрал все доступное топливо. Только что комета озаряла январскую тьму, а жар не давал пройти, и вот уже пламя потухло, забрав с собой и домик в ветвях, и дерево, и религиозные восторги фанатиков, некогда его посадивших. Редкие язычки еще потрескивали на обугленных ветвях. Затем и от них остались только струйки дыма, шипение пара, легкий дождь пепла.
Дед отыскал бабушку на парадном крыльце, через которое они никогда не ходили. Она сидела босая, в тонкой ночной рубашке. Щеки у нее были серые от пепла, ресницы и брови опалены, лицо ничего не выражало.
– Не важно, – сказал он себе и ей.
Потом сел рядом с бабушкой на ступеньку. Ее голые плечи были холодны, но она не замечала ни ночной прохлады, ни того, что дед ее обнял. Через некоторое время он встал и вызвал пожарных. Потом вернулся на крыльцо и сидел с ней, пока не приехали с мигалкой и сиреной семеро пожарных, которым, в общем-то, уже нечего было тут делать.
– По кому-то психушка плачет, – заметил один из них.
Когда много лет спустя дедушка вспомнил этот диагноз, у него выступили слезы, словно для того, чтобы затушить пожар горьких воспоминаний. Он закрыл глаза.
– Папа? – позвала моя мама некоторое время спустя.
Дед лежал с закрытыми глазами уже довольно долго: отдыхал, спал, парил в сером небе дилаудида. Мы привычно наблюдали за движениями его груди – дышит ли.
– Ты устал? – спросила мама. – Может, что-нибудь съешь?
– Дедушка, – нарочито бодро произнес я, – давай что-нибудь тебе приготовлю?
Он открыл глаза. Я видел, что старое пламя вернулось, – слезы его не затушили.
– Пудинг из тапиоки на всех, – потребовал он. – И побольше.
IX
Помню, разбираясь с дедушкиными делами после его смерти, мама сказала, что, по статистике, люди в последние полгода тратят на медицину столько же, сколько за всю предшествующую жизнь. С дедовыми рассказами диспропорция получилась еще заметнее. За последние десять дней он рассказал о себе в девять раз больше, чем за все время, что я его знал. Из крох, которыми он делился со мной в детстве, лишь одно воспоминание повторялось относительно часто: про то, как он впервые увидел мою мать. Звучало это всегда примерно одинаково: «Когда я впервые увидел твою маму, она ревела в три ручья».
Не сказать, что это вполне тянуло на воспоминания: дед никогда не добавлял подробностей. Скорее это был иронический комментарий по поводу того, что мама вновь проявила твердость характера, хладнокровие и практичность, показала, что ее за пояс не заткнешь и на кривой козе не объедешь.
– Они думают ее сломать, – сказал дед как-то в те дни, когда мама (с его помощью) пыталась юридически и финансово выпутаться из того кошмара, в который превратил нашу жизнь отец. – Но ее не сломаешь.
Произнеся что-нибудь в таком роде, дед обычно качал головой и добавлял, смакуя иронию: «Не поверишь, но, когда я первый раз ее увидел, бедняжка плакала в три ручья».
Первый раз дед увидел мою маму в вос
Страница 34
ресенье, в начале марта сорок седьмого, недели через две после «Вечера в Монте-Карло». Он приехал на пятом трамвае из дома брата на Парк-Серкл в синагогу Агавас-Шолом, где готовились справлять Пурим. Технически Пурим выпал в тот год на пятницу, но из-за каких-то субботних установлений и того обстоятельства, что во времена Иисуса Навина город Балтимор еще не был обнесен стеной, отмечали его сегодня.Иудейский календарь, как и объяснения дяди Рэя по этому поводу, деда не занимал, да и без Пурима он бы запросто обошелся. Да, в детстве на Пурим было весело, не то что в другие еврейские праздники, этого не отнимешь. Но где-то между Арденнами и Гарцем дед утратил способность радоваться поражению врага; ему казалась дешевой и глубоко неправильной параллель, которую Рэй наверняка проведет между несостоявшимся уничтожителем Аманом и вполне успешным уничтожителем Гитлером. Невезение (оно же «Бог») и еврейская хитрость разрушили замысел Амана; Гитлеру просто не хватило времени довести свой план до конца.
Ежегодные торжества в честь Божьей милости, правосудия и мощи, посты и праздники во славу Его имени, чудеса, которыми Он якобы осыпал нас на протяжении веков, – все в глазах деда обесценивалось тем, что он тогда еще не привык называть холокостом. В Египте, в Сузах, в эпоху Иуды Маккавея Господь могучей десницей избавлял нас от гибели – что с того? Когда нас отправляли в печи, Он сидел на могучем заду ровно и не вмешивался. В сорок седьмом году, по мнению деда, оставалась лишь одна причина по-прежнему называть себя евреем и демонстрировать миру свое еврейство – показать Гитлеру фигу.
Он ехал в Агавас-Шолом не для того, чтобы справлять Пурим, слушать словоблудие брата и топать ногами всякий раз, как при чтении свитка будет звучать имя Амана. И даже не ради гоменташей, хотя, разумеется, не собирался от них отказываться[16 - Дед особенно любил те, что с маковой начинкой – ложкой крохотных черных жемчужин в тесте.]. Он ехал в синагогу, поскольку дядя Рэй заверил его, что там будет бабушка, а мой дед надеялся залезть ей в трусы. Эта женщина прошла через огонь, который не сжег ее, но, как чувствовал дед, опалил. Он собирался ее спасти. Залезть к ней в трусы было необходимым первым шагом.
Отчасти именно это его в ней и привлекало – не расколотость, а возможность склеить разбитое и даже то, насколько задача будет трудна. Возможно, взвалив на себя труд любви к этой надломленной женщине, он обретет какую-то цель в жизни; спасая ее, спасется сам. С весны сорок пятого дед страдал своего рода духовной афазией. Сколько он ни вдумывался в увиденное и сделанное на войне, ему не удавалось найти в этом никакого смысла. Люди знающие и облеченные властью многократно убеждали деда, что на фронте он служил высокому предназначению и, более того, в мирной жизни дело ему тоже найдется. До встречи с бабушкой он не верил в подобные заверения; теперь, возвращаясь в синагогу по зову плоти, дед не чувствовал прежнего скепсиса. Самый зов плоти ощущался как некая форма веры.
Он знал, что одно из возможных определений слова «дурак» – «человек, который берется за работу, не осознавая ее истинных масштабов и сложности», но в конце концов инженерный корпус всегда приступал к заданиям именно так. Если в мире и была какая-то мудрость, возможно, она заключалась в оптимистично-безнадежном девизе корпуса: Essayons[44 - Essayons – попробуем (фр.).]. Итак, дед не знал, насколько большой и тяжелый труд на себя берет. Но по крайней мере, он знал, каким должно быть начало: ее губы прижаты к его губам, его бедра между ее ног, ее тело в его объятиях.
* * *
С «Вечера в Монте-Карло» дед видел бабушку трижды.
Первый раз это была своего рода ловушка наоборот, устроенная дядей Рэем. Миссис Ваксман быстро оправилась от первой неудачной попытки заарканить нового раввина и позвала его на «семейный ужин» в свою квартиру, занимавшую целый этаж в доме на Юто-Плейс. Туда же, не сообщая дяде Рэю, она пригласила мою бабушку. Дядя Рэй к тому времени уже пронюхал о заговоре и знал, что в капкан, расставленный женским клубом, угодил мой дед, поэтому в гости явился вместе с братом, надеясь, что родственная забота о душевно травмированном герое вполне его извинит.
Произошла неловкость. Аперитивы предполагалось пить в уютной малой гостиной, где два кресла Джозефа Урбана стояли напротив хагенбундовского диванчика для влюбленных[45 - …два кресла Джозефа Урбана стояли напротив хагенбундовского диванчика для влюбленных. – Хагенбунд – объединение венских художников (1899–1938), одно из направлений модерна. Джозеф Урбан (1872–1933) – австро-американский художник и архитектор, ведущая фигура Хагенбунда, создатель американского стиля ар-деко.]. Весь замысел, как эстетический, так и тактический, уничтожила необходимость срочно принести из большой гостиной истлейковский стул с вышитой спинкой. Кроме того, пришлось втиснуть еще тарелку на кухонный стол, идеально накрытый на четверых, а кухарке – спешно перераспределять пятьдесят граммов черной икры на бутербродиках с
Страница 35
ырным кремом. Однако, безусловно, источником самой большой неловкости стал мой дед. Он сидел напротив брата, почти не говорил, с механической регулярностью отправлял еду в рот и откровенно пялился на бабушку. Когда она его на этом ловила, он так же откровенно утыкался взглядом в тарелку и делал озадаченное лицо, как будто все время забывает, что такое ужин и чем они все тут заняты.На самом деле озадачивала его бабушка. Когда инженера настигает судьба (даже злая), она всегда принимает форму сложной задачки.
Элегантная красотка на «Вечере в Монте-Карло» была интересной и бойкой, но взбалмошной, немного чудной. Да что там говорить: она застегнула ему ширинку в синагоге! Молодая женщина за столом у Ваксманов была не менее красива, но как же отличались ее манеры и стиль! Столь же равнодушная к молодому раввину, как и он к ней, она надела серые жакет и юбку устаревшего военного фасона, которые даже на ее великолепной фигуре смотрелись чересчур строго. Она говорила взвешенно, рассудительно, серьезно, на более правильном американском английском, чем полторы недели назад.
Теперь, когда исчезла игривая кокетливость, в чертах проступила глубина. Гладко уложенные и заколотые волосы сегодня казались скорее рыжевато-каштановыми, лоснящимися, как конский бок. Смех был не хриплый и грубый, а тихий, вежливый. На «Вечере в Монте-Карло» дед счел ее хорошенькой пустышкой, которая торопится сгрузить свое мучительное прошлое дантистам, парикмахерам, портнихам. Перелетной птичкой, вертихвосткой. Женщина, которую он встретил в тот день у Ваксманов, была основательнее, весомее. Дед чувствовал: она – сосуд, несущий боль своего прошлого, но тяжесть внутри расколола хрупкие стенки, и в трещины сочится лучезарная тьма. Когда разговор коснулся кармелитского монастыря, где ее прятали во время войны, голос у бабушки задрожал. Дядя Рэй подал ей носовой платок. Все смотрели, как она промокает глаза в тишине, наполнившейся благоуханием гардений.
Деда смущала и завораживала метаморфоза девушки, которую он видел десять дней назад. Быть может, красотка в очках Ингрид Бергман – притворство на один вечер, а хрупкий сосуд, излучающий печаль, – истинная сущность? Или наоборот? А может, «сущность» – величина переменная, и при каждой встрече она будет представать в новом обличье? Внезапно дед по боли в щиколотке понял, что брат пинает его под столом. Он сообразил, что кто-то задал ему вопрос, и беспомощно посмотрел сперва на миссис Ваксман, потом на судью. Оба не спешили прийти на помощь, так что пришлось вмешаться дяде Рэю.
– Электротехника, – произнес он тоном добродушного раздражения. – Окончил Дрексельский технологический. И да, судья, он ищет работу, понимая, как его многострадальному младшему брату трудно обходиться без дивана.
Еще утром дед ответил бы на такое замечание чем-нибудь вроде: «Вот как? Я могу съехать завтра же!» Уже не первую неделю он каждый день просыпался на диване дяди Рэя, не понимая, зачем торчит в Балтиморе, и каждый вечер ложился с мыслью, что пора куда-нибудь перебираться.
– Я интересуюсь ракетостроением, – объявил он неожиданно для себя. – Инерционная навигация, телеметрия. Мне бы хотелось работать в «Гленн Мартин», если получится. Я слышал, они планируют заниматься такими вещами.
Миссис Ваксман взглянула уважительно, а может, просто опешила: это была самая длинная речь деда за весь вечер. Судья Ваксман сказал, что по совпадению брат его бывшего коллеги – вице-президент в «Гленн Мартин». Может быть, он сумеет помочь.
– Там делают космические ракеты? – спросил дядя Рэй. (Во время войны фирма «Гленн Мартин» построила на пустующих землях к северо-востоку от Балтимора большой завод, выпустивший тысячи гидросамолетов «маринер» и бомбардировщиков «мародер».) – Потому как знаете что, про моего братца с его инерцией и телепатией? Он, может, и похож на бетонную тумбу, но хочет полететь на Луну.
О чем говорили за столом у Ваксманов – помимо этого эпизода и бабушкиного дрожащего голоса при упоминании кармелиток, – дед сорок два года спустя вспомнить не мог. В его памяти остался лишь еще один разговор, который произошел после кофе и десерта. Чувства к бабушке – любопытство, жалость, желание – мешались, сбивая с толку. Срочно требовалось навести порядок в голове, а для этого надо было вырваться из сферы бабушкиного притяжения – ненадолго, на одну сигаретку. В поисках черной лестницы или крыльца дед наткнулся на застекленную веранду, неотапливаемую, но обставленную плетеными креслами и жардиньеркой, так что весенними вечерами тут наверняка приятно было сидеть, и быть судьей, и не знать недостатка в деньгах. Пахло затхлостью. Дед открыл окно, чтобы впустить вечернюю прохладу.
Только он закурил, как сзади хлопнула дверь: вошла бабушка в наброшенной на плечи шубе. Шуба, как и миссис Ваксман, источала аромат «Табу». Вероятно, она обошлась судье не дешевле, чем «Кадиллак-60» сорок седьмого года, который он отправлял за гостями.
– Привет.
– Э… привет.
Бабушка с вожделением глянула на сигарету у него
Страница 36
в зубах. Дед отдал ей свою «Пэлл-Мэлл», достал из пачки другую и чиркнул зажигалкой. Когда он поднял взгляд от газового огонька, то увидел, как по телу бабушки прошла легкая дрожь – от бедер к плечам и рябью испуга по лицу.– Тебе плохо?
Бабушка издала странный звук – не то конфузливый смешок, не то вскрик боли – и вынырнула из-под шубы, словно та в огне. Одновременно она бросила шубу в направлении моего деда, как будто сама бабушка – горящее здание и обязанность деда, пожарного с сетью, эту шубу спасти. Он поймал ее за воротник. Бабушка приложила руку к груди, сглотнула, затянулась сигаретой. Вид у нее был смущенный.
– Извини, – сказала она. – Просто я не люблю мех.
– Да?
– Когда сдирают шкуру… Я видела.
– Ага.
– И мне не нравилось.
Тогда бабушка впервые рассказала ему про семейную кожевенную фабрику в Лилле. На школьном английском, почти без эмоций, она описала ужасы своих ранних лет: кровь, вонь гниющего мяса и мочи от дубильных чанов, крики лошадей на живодерне, похожие на детские. Она обрисовала процесс сдирания шкуры в терминах красок. Серебристый нож. Алая кровь. Синие пленки. Желтый жир. Белая кость.
Дед держал шубу на весу. Мех поблескивал в лунной полутьме и как будто даже шевелился.
– Жарко. Из внутри-и, – сказала бабушка.
– Да? – Дед не понимал, о чем она говорит, но ему сразу сделалось проще, привычнее: она вновь стала девушкой с «Вечера в Монте-Карло», сообщившей, что его голова хорошо будет смотреться на заборе.
– Из многих внутрий. Миссис Ваксман сказала, нужно пятнадцать-двадцать внутрий.
Дед ничего не мог с собой поделать. Он рассмеялся:
– Нутрий.
– Ты знаешь внутрию?
– Я уверен, она была сегодня в супе.
Бабушка свела брови – густые и выгнутые, как у Дженнифер Джонс[46 - …брови – густые и выгнутые, как у Дженнифер Джонс. – Дженнифер Джонс (1919–2009) – голливудская актриса, обладательница пяти «Оскаров» и двух премий «Золотой глобус».]. Деду нравились ее брови, особенно когда она хмурилась.
– Ты меня дразнишь, – догадалась она.
– Извини.
– Нет, дразнить меня не плохо.
– Правда?
– Когда ты. Мне нравится, как ты дразнишь.
Дед почувствовал, что заливается краской. Веранду освещали только Луна и лампа в дальнем углу гостиной. Дед не знал, видит ли бабушка, как он покраснел.
– Мне нравишься ты, – сказал он.
– Ты мне тоже, – быстро ответила она и так же быстро добавила: – У меня есть дочка, знаешь?
– Ага, – ответил дед, застигнутый врасплох. Значит, двое. Спасать двоих. Essayons. – Сколько лет?
– Четыре года. В сентябре будет пять.
– А твой… э… ее отец?
– Я его убила.
Увидев лицо моего деда, она прыснула со смеху и тут же зажала рот рукой. Закашлялась от сигаретного дыма.
– Нет! Извини!
Поначалу бабушка смеялась, но чем дольше длился приступ смеха, тем больше он походил на плач. Она задержала дыхание, выдохнула. Взяла себя в руки.
– Это была шутка, но не смешная, так почему я смеялась?
Дед не знал, что ответить, поэтому промолчал. Она потушила окурок в горшке с засохшим цветком.
– Отец погиб. На войне.
Она подошла к открытому окну и подставила лицо холодному ветру. Глянула на молодой месяц. Ее снова пробила дрожь – раз, другой. Теперь она точно плакала да, наверное, и окоченела от холода. Дед повесил шубу на плетеное кресло. Снял пиджак – тот самый, что одалживал у брата для «Вечера в Монте-Карло», – и накинул бабушке на плечи. Она вся подалась к пиджаку, словно к струе теплой воды из душа, и продолжала отклоняться назад, пока не припала к деду. Его как будто ударило током. Он чувствовал, что вес на его груди – ноша, которая ему доверена. Ему отчаянно хотелось одного – оправдать это доверие, хотя, судя по шевелению в штанах, определенная его часть хотела и чего-то еще.
– Я тоже хочу полететь на Луну, – сказала бабушка. – Возьми меня с собой.
– Не вопрос, – ответил дед. – Сделаем.
Следующий раз он увидел бабушку, когда та выходила из булочной Зильбера, неся коробку, перевязанную розовой лентой. Она его не заметила. Дед прошел за ней по Парк-Хайтс до Бельведера и дальше до конца Нарциссус-авеню, где начинались дома поплоше. С почтительного расстояния он наблюдал, как бабушка вошла в домик на две семьи, более аккуратный, чем соседние. (Впоследствии выяснилось, что он принадлежит судье Ваксману, который сдает в нем квартиры.) На следующую ночь дед ворочался на братнем диване и не мог уснуть: думал о бабушке. В начале третьего он встал с дивана, оделся, взял ключи от «меркьюри» дяди Рэя и поехал к домику в конце Нарциссус-авеню. В окне второго этажа горел свет. У деда екнуло сердце. Он остановил машину у тротуара и выключил фары. Ночь снова выдалась холодная, но окно было распахнуто. Бабушка курила, облокотившись на подоконник, и смотрела на Луну. Дед гадал, вспоминает ли она его обещание. Грудь ныла по тяжести ее тела.
В комнате за бабушкиной спиной позвал ребенок – тихо и далеко, так что дед не мог разобрать, есть ли в голосе испуг, жалоба или требовательность. Бабушка резко оберн
Страница 37
лась и потушила сигарету о подоконник. На кусты внизу посыпался дождь искр.Подходя в тот день к Агавас-Шолом если не с планом операции, то с четким осознанием своей миссии, он увидел на каменной скамье перед стеклянной дверью маленькую девочку: она сидела, упершись подбородком в колени и обняв ноги. Девочка еле заметно – не больше чем на три градуса – раскачивалась взад-вперед и, как сперва показалось деду, что-то напевала себе под нос. На ней было зеленое платье, зеленые колготки и черные лакированные туфельки с ремешком. У платья были рукава-крылышки, оставлявшие голыми руки, и даже в колготках девочка наверняка замерзла – сам он был в шляпе, шарфе и шерстяном пальто поверх свитера. Наверное, в три-четыре года с голыми руками, на каменной скамье в сорок градусов по Фаренгейту[47 - Сорок градусов по Фаренгейту – примерно 5 °C.] дед бы тоже ревел в три ручья, но он предпочитал думать, что догадался бы уйти в теплый дом.
Одна стеклянная створка распахнулась. Девочка перестала раскачиваться и выпрямилась. Из синагоги вышел еврей, держа в руках детское пальтишко. На еврее был огромный штраймл, лапсердак, подметавший полами улицу, и борода, как у Эдмунда Гвенна в «Чуде на 34-й улице»[48 - …борода, как у Эдмунда Гвенна в «Чуде на 34-й улице». – «Чудо на 34-й улице» (Miracle on 34th Street, 1947) – американская рождественская комедия. Эдмунд Гвенн (1877–1959) сыграл в ней роль Криса Крингла, старика, который соглашается изображать Санта-Клауса.]. Дед удивился, что такой еврей ходит в Агавас-Шолом, где женщины сидят рядом с мужчинами, а раввин – бойкий пижон, не способный отрастить даже приличную щетину. Еврей в огромной меховой шапке словно не замечал приближающегося деда, а девочка словно не замечала еврея. Только уже не плакала в три ручья. И вообще не плакала.
Еврей накинул на девочку пальтишко, уверенным движением поправил воротник у нее на шее и ушел обратно. Когда он входил в дверь, струя воздуха из теплого помещения приподняла край лапсердака, и дед увидел ярко-красные домашние туфли с загнутыми носами. Почему-то они удивили его даже больше, чем присутствие такого еврея в Агавас-Шолом, но, с другой стороны, то, чего дед не знал и не хотел знать про ортодоксальных иудеев, их одежду и обувь, составило бы целую книгу.
– Не знал, что бывают евреи-эскимосы, – сказал он девочке, подходя к дверям синагоги.
Она подняла на него глаза. Личико сердечком, припухлые обветренные губы, вздернутый носик шиксы. Бутылочно-зеленые глаза, сухие, без единой слезинки. Может, и впрямь плакала просто от холода.
– Что? – спросила она.
– Ты не замерзла?
Она сунула руки в рукава пальтишка. Кивнула.
– Тогда почему ты сидишь здесь?
– Мне два часа нельзя заходить в дом.
– Вот как? Почему?
– Потому что я плохая.
– Поэтому ты должна два часа сидеть на холоде?
– Да.
– Наверное, ты как-то особенно плохо себя вела.
– Да.
Наказание представлялось чрезмерным, однако о дисциплинарных методах у ортодоксальных иудеев дед знал еще меньше, чем об их обуви. Он глянул через стеклянную дверь, отыскивая глазами еврея в меховой шапке, – может, поговорить с ним? Стены вестибюля – большого спартанского пространства под скошенным модернистским потолком – украшали бумажные купола и арки в персидском духе. Сразу за входом на двух шестах было растянуто полотнище с надписью «Дорога на Сузы» псевдоарабской вязью. У двери в молельный зал топтались несколько человек, и среди них – еврей в шапке. Рядом с ним стояла стройная девушка, наряженная, как ярмарочная Саломея, в браслетах и покрывалах.
– Замолвить за тебя словечко? – спросил дед. – Могу по блату.
– Что?
– Кто тебе велел сидеть два часа на холоде?
– Я.
– Ты?
– Да.
– Потому что ты плохо себя вела.
– Угу.
– Ты себя наказываешь.
Она кивнула.
– И что же ты такого плохого сделала, что себя наказываешь?
– Мама сказала, я говорила невежливо.
– С кем?
– С раввином.
– И что же ты ему невежливого сказала?
– Я спросила, почему он душится теми же духами, что наша соседка снизу, миссис Полякофф.
– Ох-хо.
– Что?
– Какими духами душится миссис Полякофф?
– «Джангл гардения».
Дед рассмеялся. Через секунду осторожно рассмеялась и девочка.
– Это смешно, – предположила она.
– Мне смешно. Очень.
– Да, это очень смешно.
Дверь снова отворилась, и вышел еврей в большой меховой шапке, китайском халате и с бородой Санты из магазина «Все по десять центов».
– Ну вот, все плохие дети уже здесь.
Моя мама перестала смеяться и отвела глаза.
– Знаешь, я почти уверен, что Рэй душится «Джангл гарденией», – сказал дед бабушке. – Мне кажется, гражданка искупила свою вину перед обществом. Может, разрешим ей вернуться из Сибири?
– Я уже три раза выходила и звала ее в дом! – воскликнула бабушка. – Она никого не слушает! Я ей говорю: «Ты грубо себя ведешь, поди и посиди две минуты на стуле». В комнате, не на улице! Две минуты! А она мне: «Нет, я такая плохая, что буду сидеть на улице два часа». Я умоляла,
Страница 38
ернись, пожалуйста, ты схватишь воспаление легких! – Она повернулась к моей маме, затрясла бородой. – В больницу хочешь? Умереть хочешь? – В голосе звучало раздражение, даже злость и в то же время некоторая театральность, словно бабушка только играет доведенную до ручки мамашу. А может, так казалось из-за комедийной бороды. – Этого ты хочешь?– Нет, – ответила моя мама.
– Рада слышать, потому что, если умрешь, мне придется убить себя, а я хочу жить.
Дед подумал, что она слегка перегибает палку, но не был уверен в своей правоте. Его мама, когда доходила до ручки, вроде бы прибегала к сходной риторике. И вроде бы такие мамины сцены ему не нравились – он точно не помнил, – однако эту женщину надрыв скорее украшал. Казалось, ей доступен более широкий диапазон чувств, область спектра, невидимая обычному глазу.
При упоминании самоубийства моя мама с интересом посмотрела на свою мать:
– Почему тебе придется убить себя?
– Потому что без тебя у меня никого не будет, я останусь одна-одинешенька, и зачем мне тогда жить, лучше уж умереть.
– Ладно-ладно, – сказал дед. – Никто себя не убьет, и никто не останется один. – Он глянул на мою маму. – Я с довоенного времени говорю раввину, что он пахнет, как миссис Полякофф. А ведь я ее даже не знаю. По-твоему, я тоже должен сидеть здесь с тобой два часа, чтобы себя наказать?
– Нет, – ответила моя мама. – Я войду.
– Тогда и я войду, – сказал дед.
Он открыл дверь и протянул маме руку. Вряд ли ему прежде случалось вот так протянуть руку ребенку. Дед хотел, чтобы бабушка видела: он может взять ее дочку за руку и та не откажется. И убедить малышку, чтобы та ушла с холода, – его первый шаг к восстановлению разрушенного войной.
Секунду-две мама раздумывала, взять ли его за руку, потом просто встала и шмыгнула внутрь. Дед расстроился, но огорчение придало ему решимости. Он будет работать с девочкой. Сделает все, чтобы заслужить ее доверие и, надо надеяться, любовь.
– Извини, – сказала бабушка.
Нелепая шапка и накладная борода не могли скрыть, что бабушка изучает его лицо, что от нее не ускользнули его огорчение и его решимость. Никто прежде не глядел на деда так внимательно, разве что с намерением начистить ему рыло. И от мысли, что его впрямь видят, что-то в груди деда раскрылось, как парашют.
– Ничего страшного, – ответил дед и указал на ее бороду и одеяние. – Что это?
– Я играю роль Мардохея. В пуримшпиле.
– Это объясняет туфли.
– Твой брат – Астинь.
Рэй красовался перед входом в молельный зал, властный и самовлюбленный, как царица Персии.
– Роль как раз для него. Послушай. – Дед взял ее за локоть и даже сквозь китайский халат ощутил электризующее соприкосновение. – Тебя не смущает?
Он указал на шапку. Ему помнилось, что настоящий штраймл шьют из хвостов мелких пушных зверьков, норки или куницы.
Бабушку вопрос озадачил.
– У тебя на голове штук восемнадцать куньих хвостов.
Она не испугалась. Не забилась, как в лихорадке, от воспоминаний о кричащих лошадях и содранных шкурах. Вместо этого лицо у нее стало… Дед не мог описать. Ему легко было бы задним числом, после всего, что случилось позже, вспомнить бабушкин взгляд как смущенный, сконфуженный – взгляд женщины, которую поймали на вранье. Но в конце концов он остановился на слове «нетерпеливый». Она вытянула губы трубочкой и на французский манер легонько пожала плечами, словно он и сам должен понимать, отчего она терпит прикосновение смерти к своей коже.
– Это для пьесы, – сказала бабушка.
X
За пять минут до конца следующей смены Девона дед явился на пост охраны в болотных сапогах поверх старых хэбэшных штанов и с пустым гермопакетом. За спиной у него был синий детский рюкзачок с эмблемой НАСА, куда он положил термос с лимонадом, аптечку и полевой определитель змей из местной библиотеки. В правой руке у него была прогулочная трость, которую Салли Зихель купила своему мужу Лесли, когда тому из-за болезни стало тяжело ходить, и которой тот ни разу не воспользовался. До вчерашнего дня набалдашником трости служила серебряная утиная голова. В хозяйственном магазине Фонтана-Виллидж дед (с разрешения Салли) заменил ее на трехфунтовую кувалду. По пути от дома к посту охраны дед помахивал тростью, не обращая внимания на удивленные взгляды и два прямых вопроса. Однако Девон сразу угадал его замысел.
– Я бы лично взял мачете. – Девон рубанул правой рукой по запястью левой. – Отсечь голову быстро и чисто – самое милое дело.
Дед сделал мысленную пометку зайти к главному садовнику Перфекто Тьянту и попросить у него мачете. Он показал гермопакет:
– Вы сказали, что видели его помет. Поможете мне добыть?
– Прям щас? – Девон глянул скептически.
– У вас разве не в восемь смена заканчивается?
– Да, сэр, в восемь. Но потом у меня личное время.
– Да? И что вы делаете?
– В личное время? – Девон возвел глаза к потолку, словно читая там длинное меню занятий и развлечений. – Могу сказать, чего точно не делаю. Не собираю змеиные погадки в пакетики.
Страница 39
Никогда?– Никогда, сэр.
Два старика смотрели друг на друга в упор. Стрелка настенных часов с громким щелчком перескочила на следующую секунду их жизни.
– Я мог бы вознаградить вас за труды, – сказал дед.
Девон улыбнулся. Ему приятно было видеть прижимистость в еврее. Он был убежден, что дед – миллионер.
– Сколько?
– Двадцать пять. Но только если у меня будет что-нибудь в пакете.
Когда пришел ночной сторож, Девон снял кепку с логотипом Фонтана-Виллидж и взял нейлоновую сумку на молнии. Дед вышел за ним к его «катлесс-сьюприму» 1979 года, который ждал на стоянке для персонала: виниловый верх давно выцвел и облупился под флоридским солнцем. Девон открыл багажник и сунул туда сумку (предварительно вытащив сэндвич с арахисовым маслом и жареной картошкой, который сложил пополам и пальцами затолкал в рот). Затем снял форменную рубашку и повесил ее на плечики в машине. Пузо колыхалось в бурдюке майки. Плечи были цвета слабого чая с молоком и сплошь конопатые, веснушки, волосы и брови – цвета песочного печенья. Девон убрал кепку в сумку и взял с задней полки соломенную ковбойскую шляпу с лихо закрученными полями. Открыл пластмассовый ящик с инструментами в самой дальней части багажника, под задней полкой, и долго там рылся, пока не вытащил мачете, длиной со свою руку, в кожаных ножнах. Балансируя им на раскрытой ладони и продолжая энергично жевать сэндвич, Девон в задумчивости глядел на деда:
– Сегодня утром вряд ли понадобится. Но если хотите, могу одолжить.
– Не люблю одалживаться, – сказал дед. – Возьму напрокат.
– Дело хозяйское.
Дед сел в машину. Там было как в духовке. Он опустил стекло – ручка обожгла пальцы. Засипел кондиционер. Пахло плесенью, арахисовым маслом и жареной картошкой.
– Когда ж я последний раз там был? – проговорил Девон. – Да с Финлеем Гадбуа. Помните Финлея?
Дед вспомнил взбитую соломенную прическу за журналом о мотогонках и две ноги в пижонских ботинках на столе охраны.
– Брат Финлея работал на каких-то риелторов, в общем, ездил все там обсматривать. Как-то взял меня и Финлея с собой, мы через главные ворота въехали. И… э-э-э… помет был по всему крыльцу гольф-клуба.
– Покажите мне.
– Ворота на цепи.
– Покажите.
– Там замок.
Дед пристроил насовский рюкзак на колени и поглядел в окно на Фонтана-Виллидж. Сцена никогда не менялась, ее лишь изредка разнообразили дождь, люди, гольф-кары. Оштукатуренные домики, пальмы, асфальтовые дорожки, газоны, трава на которых, казалось, никогда не подрастала и не жухла. Надо всем – стеклянный колпак неба. Встряхни – закружит метель из блесток. Картина приелась деду настолько, что он гадал: может, с ним правда что-то не так? Бумажка, на которой врач записал телефон специалиста, по-прежнему составляла компанию Хосни Мубараку в последнем номере «Комментария». Ладно, сказал себе дед, вот покончу со змеей и запишусь на прием.
– Когда получу свое, тогда и перестану говорить вам, что делать, – сказал дед. – Покажите.
Конец ознакомительного фрагмента.
notes
Сноски
1
Кусок все той же струнной проволоки, обычно спрятанный в обувном шнурке. (Здесь и далее примеч. авт.)
2
Про человека, которого нечаянно чуть не зашиб (по счастью, аппарат лишь немного задел его голову), мой дед знал только, что тот не стал подавать иск. «Дейли ньюс» разыскала жертву. Это оказался Иржи Носек, глава чехословацкого представительства в международном органе, к созданию которого приложил руку Элджер Хисс. «Впервые высокопоставленного коммунистического деятеля задело пролетающим телефонным аппаратом, – писал корреспондент „Дейли ньюс“ тоном преувеличенной серьезности. – Носек заявил, что, как настоящий чех, должен смеяться над всем, что его не убило».
3
Судя по всему, колода Ленорман обязана своим происхождением не девице Марии-Анне Ленорман, величайшей карточной гадалке (если не величайшей обманщице) девятнадцатого столетия, а немецкой игре Das Spiel der Hoffnung («игра надежды»), в которой использовались игральные кости и тридцать шесть карт, разложенные в шесть рядов по шесть штук в ряду: своего рода гибрид Таро со «змеями и лестницами».
4
Позже я узнал в одном особенно напугавшем меня фрагменте заимствование из «Неизвестного» Тода Браунинга*.
* Тод Браунинг (1880–1962) – американский кинорежиссер, один из основоположников жанра фильмов ужасов, начинавший еще в немом кино. Действие «Неизвестного» (The Unknown, 1927) разворачивается в цыганском бродячем цирке; главный герой – якобы безрукий метатель ножей Алонсо (Лон Чейни), убийца, который скрывается от полиции.
5
В старших классах я с изумлением обнаружил источник этой истории в «Хрестоматии Джона Кольера», – по крайней мере, так я думал до сегодняшнего дня, когда тщательно, от корки до корки и обратно, пролистал здешний экземпляр (издательство «Кнопф», 1972) и не нашел там и следа этого сюжета. Либо бабушка позаимствовала его из другого сборника или другого автора, либо мое открытие
Страница 40
роизошло во сне, вызванном, быть может, рассказом «На дне бутылки» того же Кольера*, с его восхитительно коварным джинном и бессмертной последней строкой.* Джон Кольер (1901–1980) – английский писатель и сценарист, известный главным образом своими рассказами с их парадоксальными, часто фантастическими сюжетами и черным юмором. «На дне бутылки» (Bottle Party, 1939, в других русских переводах – «В бутылке» и «Не лезь в бутылку») – вариация на тему неумеренных желаний и опасности общения с джиннами.
6
Он оплачивал обучение в Дрексельском институте игрой в бильярдных от Нью-Йорка до Балтимора и Питсбурга. «У меня не было выбора, – рассказывал он мне. – Все, скопленное родителями, шло на обучение моего братца».
7
Только для демонстрации (нем.).
8
Я по-прежнему готовлю петуха в вине, картофельный суп-крем и омлет по бабушкиным рецептам, напечатанным на голубых каталожных карточках. Я забыл или потерял ее замечательную омлетную сковороду в переездах и сумятице после моего развода.
9
И которая свела ее в могилу: бабушка умерла от рака матки в 1975-м, в пятьдесят два года.
10
Дед всегда выказывал демонстративное презрение к Вернеру фон Брауну, говорил, что тот был одним из прообразов тайного фашиста доктора Стрейнджлава у Сазерна и Кубрика*. Упоминая фон Брауна или зачитывая его высказывания в газете, дед изображал карикатурный немецкий акцент. Компания моего деда «Эм-Эр-Икс» разрабатывала ракеты для «Эстес», «Сенчури» и «Шейбон сайнтифик» и большей части других ведущих фирм в эпоху расцвета реактивных моделей. Разработки «Эм-Эр-Икс» основывались на таких знаменитых американских ракетах, как «Авангард», «Тор», «Титан», но никогда за десять с небольшим лет существования своей фирмы дед не копировал ракеты класса «Редстоун», «Юпитер» или «Сатурн», созданные фон Брауном. Молчаливый бойкот продолжался даже в эру «Аполлонов», когда всем хотелось запустить «Сатурн V». И дед изумил и озадачил моих родителей и меня, когда 20 июля 1969 года, после того как с растущим волнением и радостью ждал высадки человека на Луне, внезапно отказался смотреть с нами и почти со всем человечеством, как Нейл Армстронг исполняет общую мечту деда и фон Брауна. Только бабушка не удивилась, когда дед молча вышел из комнаты. Я помню, как она сказала, кивнув в сторону телевизора: «Видимо, они всё сделали не так».
* «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу» (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964) – черная комедия режиссера Стэнли Кубрика по сценарию писателя Терри Сазерна, сатира на военные программы США и гонку вооружений в целом.
11
Участники пикника (без одеяла и транзисторного приемника) из британского набора для игрушечной железной дороги масштаба 1:76,2 «Вечер в парке».
12
На ее новом месте на Рэйстерстаун-роуд в Пайксвилле. Агавас-Шолом была в числе первых крупных синагог, переместившихся из довоенного сердца еврейского Балтимора на окраину за Севн-Майл-лейн.
13
Зубы ей с великим трудом восстановил дантист на Либерти-Хайтс, который позже, выйдя на пенсию, переселился во Флориду, где как-то пришел на мое выступление перед читателями в «Букс & букс» и рассказал, что так до конца не оправился от шока при виде тогдашнего бабушкиного рта.
14
По большей части моделей военной техники, купленных на распродажах или по оптовой цене.
15
В шестьдесят втором компания «Мартин» (в то время, когда дед мне это рассказывал, – «Мартин-Мариетта», успешно работающая над ракетой «Титан») приобрела «Патапско» у его бывшего партнера Мильтона Вейнблатта, заплатив, как говорил дед, «примерно в двести раз больше, чем Вейнблатт – мне».
16
Дед особенно любил те, что с маковой начинкой – ложкой крохотных черных жемчужин в тесте.
Примечания
1
«Аэро-би» – американские метеорологические ракеты, разработанные по заказу ВМС США. Усовершенствованная версия «Аэро-би», Aerobee-Hi, предназначенная для исследования верхних слоев атмосферы, выпускалась с 1952 года.
2
Когда Элджер Хисс вышел из тюрьмы… – Элджер Хисс (1904–1996) – американский государственный деятель и дипломат. Соратник президента Ф. Д. Рузвельта, участник создания ООН, первый Генеральный секретарь ООН в 1945-м, президент Фонда Карнеги. В 1948 году был обвинен в передаче секретных документов КГБ, и, хотя срок давности по обвинениям в госизмене вышел, в 1950-м его осудили на пять лет за дачу ложных показаний. Из этого срока он отбыл три с половиной года и в 1954-м вышел на свободу.
3
…служил секретарем у Оливера Уэнделла Холмса… – Оливер Уэнделл Холмс-младший (1841–1935) – американский юрист и правовед, многолетний член Верховного суда США, автор работы «Общее право» и самый часто цитируемый американский юрист.
4
…где его жена-иностранка ни много ни мало играла Серафину в «Татуированной розе». – «Татуированная роза» (1951) – п
Страница 41
еса Теннесси Уильямса.5
…ухитрялась заныкать доллар-два для пушке. – Пушке (цдоке-пушке, идиш) – копилка для благотворительных пожертвований. Такие копилки, обычно жестянки с прорезью, стояли не только в синагоге, но и в домах; часто опускать в них еженедельное пожертвование поручали детям, чтобы приучить тех к благотворительности.
6
…я вспоминал Хью Хефнера, иногда – Моше Даяна. – Хью Хефнер (р. 1926) – основатель журнала «Плейбой»; Моше Даян (1915–1981) – израильский полководец, министр обороны во время Шестидневной войны. Во время Второй мировой войны из-за ранения потерял глаз и остаток жизни ходил с черной повязкой.
7
Оттуда вышла Мариан Андерсон… – Мариан Андерсон (1897–1993) – американская чернокожая певица, исполнявшая классические произведения и спиричуэлс.
8
…перебрасывали агентов Болдуина-Фелтса на войну за шахты Пейнт-Крик. – Война за шахты на реках Пейнт-Крик и Кэбин-Крик – столкновения между бастующими шахтерами и владельцами угольных шахт в Западной Виргинии, продолжавшиеся с апреля 1912 до июня 1913 года. В мае для подавления забастовки владельцы шахт наняли три сотни охранников из детективного агентства Болдуина-Фелтса, до того занимавшегося главным образом охраной поездов от грабителей; в июле три тысячи вооруженных шахтеров объявили войну губернатору штата, после чего против них выслали правительственные войска. Всего в столкновениях были убиты по меньшей мере пятьдесят человек, не считая умерших от голода.
9
…ветеран Аргоннского наступления… – Аргоннское наступление (конец сентября – первая половина октября 1918 года) – крупное наступление войск Антанты на позиции немецких войск во время Первой мировой войны.
10
«Поразительные истории сверхнауки» («Astounding Stories of Super-Science») – влиятельный американский научно-фантастический журнал, в котором в разное время печатались практически все видные фантасты. Начал выходить в 1930-м, позже название сократилось до «Astounding Stories», а в 1960-х сменилось на «Analog Science Fact – Fiction», в обиходе просто «Аналог».
11
…чувствовал в запахе жавелевой воды… – Жавелевая вода – отбеливатель, по составу близкий к хлорке.
12
…в составе цирка братьев Энтуистл-Илинг из города Перу, штат Индиана. – Этот цирк упоминается в рассказе Шейбона «Бог темного смеха» (2001, русский перевод В. Бабкова).
13
…мы с бабушкой иногда ходили в кино на тогдашние леденцовые эпопеи: «Доктор Дулиттл», «Гномобиль», «Пиф-паф ой-ой-ой». – «Доктор Дулиттл» (Doctor Dolittle, 1967) – американский музыкальный фильм по книгам Хью Лофтинга о докторе Дулиттле (более известному российским читателям как доктор Айболит по пересказам К. Чуковского); «Гномобиль» (The Gnome-Mobile, 1967) – комедийный фильм Уолта Диснея по одноименной книге Эптона Синклера; «Пиф-паф ой-ой-ой» (Chitty Chitty Bang Bang, 1968) – английский музыкальный фильм по мотивам одноименной книги Яна Флеминга.
14
Ours. Chat. Cochon. – Медведь. Кошка. Свинья (фр.).
15
…cafard, algie, crise de foie. – Хандра, боль, приступ печени (фр.).
16
Бё!.. Синон, коман фэр ун птит парти? (Beuh… Sinon comment faire une petite partie?) – Вот те на… А как иначе составить маленькую партию? (фр.)
17
…карта с немецкими сердцами, листьями, желудями и бубенцами. – Немецкие масти немного отличаются от общепринятых (французских). Сердца соответствуют червам, листья – пикам, желуди – трефам, бубенцы – бубнам.
18
…до задников «лодочек» фирмы И. Миллера… – Фирма «И. Миллер», созданная Израэлем Миллером (1892–1929), выпускала дорогую дамскую обувь, которая остается культовой и в наши дни, хотя сама фирма закрылась в середине 1980-х. Оформление рекламной кампании этой фирмы в 1950-м принесло первый успех Энди Уорхолу.
19
…«Бонуит» или «Генри Бендел»… – «Bonwit Teller» и «Henri Bendel» – старейшие дорогие магазины дамского платья в Нью-Йорке.
20
…я лучше буду танцующей курицей в стеклянном ящике на Стальном пирсе… – Стальной пирс – парк развлечений, разместившийся на стальном пирсе в Нью-Джерси, с начала века и до 1970-х годов – один из самых больших в США. Аттракцион с танцующей курицей был популярен в Америке до 1960-х годов. Обученная курица сидела в стеклянном ящике – если опустить монетку, курице насыпался корм, и она исполняла небольшой танец. Вариант этого аттракциона, при котором курица играет с посетителем в крестики-нолики, до сих пор встречается в некоторых казино.
21
– Когда-нибудь греб на каноэ? – спросил Бак… / – Видел, как это делают, – ответил дед, думая, в частности, о немой версии «Последнего из могикан», которую смотрел в джермантаунском «Лирике». – Раз Бела Лугоши справился, справлюсь и я. – Бела Лугоши (Бела Ференц Дежё Блашко, 1882–1956) – американский актер венгерского происхождения, наиболее известный исполнением роли Дракулы. В «Последнем из могикан» (1920) играл Чингачгука.
Страница 42
22
«Подснежники». – Во время Второй мировой войны форма корпуса военной полиции США включала широкую белую полосу на каске, белый ремень, белые перчатки и белые гетры, отсюда и прозвище «подснежники».
23
…доигрались, как подозревал дед, до Ливенворта. – В Форт-Ливенворте расположены Дисциплинарные казармы – военная тюрьма строгого режима.
24
…ответил Дикий Билл Донован. – Уильям Джозеф Донован по прозвищу Дикий Билл (1883–1959) – американский военный, юрист и шеф спецслужб. Первую мировую войну закончил в звании подполковника, во время Гражданской войны в России находился при штабе Колчака. С лета 1941-го личный координатор Рузвельта по разведывательной деятельности, с июня 1942-го – директор Управления стратегических служб. Руководил сбором разведданных и организацией диверсий в Северной Африке и Европе.
25
…не придумаешь места лучше железной койки в «Гробницах». – «Гробницы» – народное прозвище Манхэттенской следственной тюрьмы, по архитектурному облику первоначального здания в псевдоегипетском стиле, выстроенного в подражание гробницам фараонов.
26
…и получила маленькую роль в возрожденной постановке «О, молодость!», которая так и не добралась до Бродвея. – «О, молодость!» (Ah, Wilderness!, 1932) – комедия американского драматурга Юджина О’Нила (1888–1953). Многие бродвейские постановки сначала «обкатывают» в провинции и в случае провала просто не выпускают на бродвейскую сцену.
27
…и «занавески Салли Райд» перед унитазом. – Салли Кирстен Райд (1951–2012) – первая американская женщина-астронавт. Небольшая занавеска-ширма перед санузлом на космическом корабле носит ее имя, поскольку до появления на борту женщины астронавты обходились без занавесочек.
28
Ярцайт – годовщина смерти (идиш).
29
Тридцать шесть градусов при запуске. – 36 °F – примерно –2 °C. Инженеры, знавшие конструктивные недочеты челнока, предупреждали, что проводить запуск при такой температуре опасно, однако он откладывался уже несколько раз, и руководство НАСА не согласилось на новую задержку. Из-за холода уплотнительные кольца твердотопливных ускорителей потеряли эластичность, что привело к разгерметизации и утечке горячих газов, которая повлекла за собой отрыв топливного бака и разрушение челнока.
30
…позволяли многим сравнивать ее с Симоной Симон. – Симона Тереза Фернанда Симон (1910–2005) – французская киноактриса еврейско-итальянского происхождения, во время войны жила в США и снималась в Голливуде.
31
…одна из первых еврейских выпускниц колледжа Брин-Мор… – Колледж Брин-Мор – частный женский гуманитарный университет в Пенсильвании; основан в 1885 году квакерами и входит в число семи старейших и наиболее престижных женских колледжей на Восточном побережье США.
32
Mais voil? le rabbin! – А вот и раввин! (фр.)
33
Великие евреи от Авраама до Гиллеля… – Гиллель Вавилонянин (75 г. до н. э. – ок. 5–10 н. э.) – видный иудейский законоучитель, автор изречения: «Чего не хочешь себе, не делай другому – в этом вся Тора».
34
Отсюда он перешел к Маймониду, Хэнку Гринбергу… – Моисей Маймонид (1135/1138–1204) – талмудист, ученый-энциклопедист и врач; Генри Бенджамин Гринберг по прозвищу Еврейский Молот (1911–1986) – американский бейсболист, первый еврей среди суперзвезд американского спорта.
35
Шуль – синагога (идиш).
36
Особенно его занимала белка, которую он называл «мамзер». – Мамзер (иврит) – внебрачный сын замужней еврейки; в переносном значении – хитрец, прохвост.
37
C’est fait – готово (фр.).
38
…свежим номером «Комментария»… – «Комментарий» (Commentary) – ежемесячный журнал об иудаизме, политике и культуре, выпускаемый с 1945 года Американским еврейским комитетом.
39
…словно четвероногие семинолы. – Семинолы – индейское племя, возникшее из объединения флоридских индейцев, не сдавшихся властям США, и бежавших с плантаций чернокожих рабов. Само название «семинолы» – искаженное испанское слово, означающее «беглецы», «дикие».
40
…разработанный на основе того же блюда в «Хорн и Хардарт». – «Horn & Hardart» – кафетерии-автоматы, очень популярные в США с 1910-х до 1970-х годов; позже их вытеснили фастфуды.
41
…обсуждение Агню или Сондхайма… – Спиро Теодор Агню (1918–1996) – вице-президент США в 1969–1973 годы. Избирался вместе с Никсоном на два срока в 1968-м и 1972-м, на выборах 1976 года планировал баллотироваться в президенты, однако летом 1973-го оказался в центре крупного скандала: вскрылись его финансовые злоупотребления (уклонение от налогов, взятки), и началось судебное разбирательство. Стивен Джошуа Сондхайм (р. 1930) – американский композитор и поэт, автор многих бродвейских мюзиклов.
42
…плиточной термоизоляции и докторе Ричарде Фейнмане… – Нобелевский лауреат физик Ричард Фейнман (1918–1988) входил в комиссию по расследованию катастрофы «Челленджера».
Страница 43
43
…винтажным «корветом» коммандера Рика Хаука… – Фредерик Хэмилтон «Рик» Хаук (р. 1941) – американский астронавт. Совершил три космических полета: в качестве пилота на «Челленджере» (1983) и дважды в качестве командира экипажа на «Дискавери». Увлекается реставрацией старых автомобилей.
44
Essayons – попробуем (фр.).
45
…два кресла Джозефа Урбана стояли напротив хагенбундовского диванчика для влюбленных. – Хагенбунд – объединение венских художников (1899–1938), одно из направлений модерна. Джозеф Урбан (1872–1933) – австро-американский художник и архитектор, ведущая фигура Хагенбунда, создатель американского стиля ар-деко.
46
…брови – густые и выгнутые, как у Дженнифер Джонс. – Дженнифер Джонс (1919–2009) – голливудская актриса, обладательница пяти «Оскаров» и двух премий «Золотой глобус».
47
Сорок градусов по Фаренгейту – примерно 5 °C.
48
…борода, как у Эдмунда Гвенна в «Чуде на 34-й улице». – «Чудо на 34-й улице» (Miracle on 34th Street, 1947) – американская рождественская комедия. Эдмунд Гвенн (1877–1959) сыграл в ней роль Криса Крингла, старика, который соглашается изображать Санта-Клауса.


