Читать онлайн “В дороге” «Джек Керуак»
- 01.02
- 0
- 0
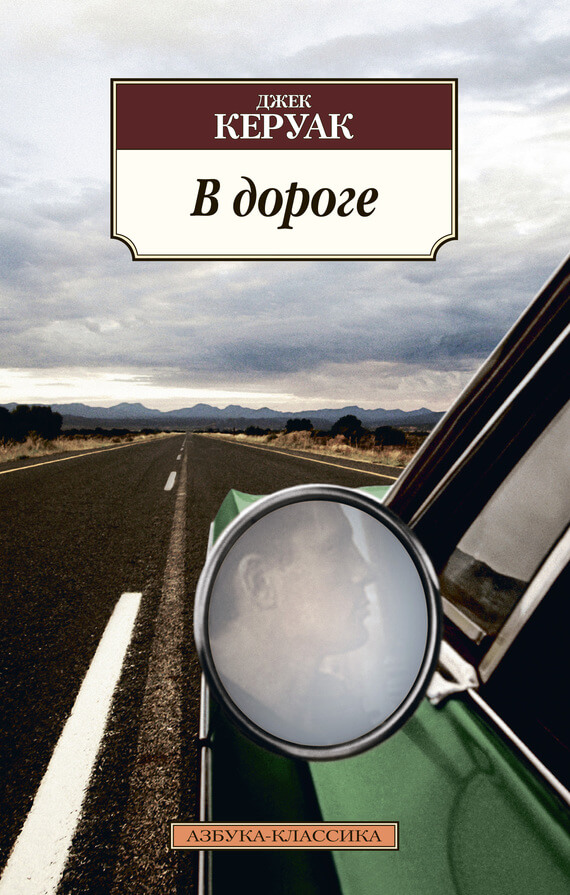
Страница 1
В дорогеДжек Керуак
Азбука-классика
Джек Керуак дал голос целому поколению в литературе, за свою короткую жизнь успел написать около 20 книг прозы и поэзии и стать самым известным и противоречивым автором своего времени. Одни клеймили его как ниспровергателя устоев, другие считали классиком современной культуры, но по его книгам учились писать все битники и хипстеры – писать не что знаешь, а что видишь, свято веря, что мир сам раскроет свою природу. Именно роман «В дороге» принес Керуаку всемирную славу и стал классикой американской литературы. Первый редактор этой книги любил вспоминать, что более странной рукописи ему не приносили никогда. Здоровенный, как лесоруб, Керуак принес в редакцию рулон бумаги длиной 147 метров без единого знака препинания. Это был рассказ о судьбе и боли целого поколения, выстроенный, как джазовая импровизация. И главный герой романа, зубоскал, бабник и пьяница Дин Мориарти, до сих пор едет на своем дребезжащем «мустанге» по дороге, которая не кончится никогда.
Каждое новое поколение находило в битниках что-то свое, но пик возрождения интереса к Керуаку, Гинзбергу и Берроузу пришелся на первое десятилетие XXI в. Несколько лет назад рукопись «В дороге» ушла с аукциона почти за 2,5 миллиона долларов, а сейчас роман приобрел наконец киновоплощение.
Книга также выходила под названием «На дороге».
Джек Керуак
В дороге
Jack Kerouac
ON THE ROAD
Copyright © 1955, 1957 by Jack Kerouac
All rights reserved
© В. Коган, перевод, 1995
© В. Пожидаев, оформление серии, 2012
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru (http://www.litres.ru/))
* * *
Часть первая
1
С Дином я познакомился вскоре после того, как расстался с женой. Я тогда перенес серьезную болезнь, распространяться о которой не стану, скажу только, что она имела отношение к страшно утомительному разводу и еще к возникшему у меня тогда чувству, что кругом все мертво. С появлением Дина Мориарти начался тот период моей жизни, который можно назвать жизнью в дороге. Я и раньше частенько мечтал отправиться на Запад, посмотреть страну, – строил туманные планы, но так и не двинулся с места. Дин – идеальный попутчик, он даже родился в дороге, в 1926 году, в Солт-Лейк-Сити, когда его отец с матерью добирались на своей колымаге до Лос-Анджелеса. Впервые я услышал о нем от Чеда Кинга, который показал мне несколько писем Дина, отправленных из исправительной школы для малолетних преступников в Нью-Мексико. Письма меня страшно заинтересовали, потому что их автор с очаровательным простодушием просил Чеда обучить его всему, что тот знает о Ницше и прочих замечательных интеллектуальных премудростях. Как-то мы с Карло разговаривали об этих письмах и сошлись на том, что с удивительным Дином Мориарти надо непременно познакомиться. Это было очень давно, когда Дин еще не стал таким, как теперь, а был еще окутанным тайной юным арестантом. Затем до нас дошли слухи, что Дин вышел из исправительной школы и впервые едет в Нью-Йорк. Еще поговаривали, что он уже успел жениться на девушке по имени Мерилу.
Однажды, околачиваясь в университетском городке, я услышал от Чеда и Тима Грэя, что Дин остановился в какой-то халупе без отопления в Восточном Гарлеме – Испанском квартале. Накануне вечером Дин прибыл в Нью-Йорк со своей хорошенькой продувной цыпочкой Мерилу. Они вышли из междугородного автобуса на 50-й улице, завернули за угол в поисках места, где можно перекусить, и попали прямо к «Гектору». И с тех пор закусочная Гектора навсегда осталась для Дина главным символом Нью-Йорка. Они потратились на большие красивые глазированные пирожные и слойки со взбитым кремом.
Все это время Дин твердил Мерилу примерно следующее: «Вот мы и в Нью-Йорке, дорогая, и хотя я рассказал тебе еще не обо всем, о чем думал, пока мы ехали через Миссури, а главное – когда проезжали Бунвилльскую исправительную школу, которая напомнила мне о моих тюремных передрягах, – сейчас во что бы то ни стало надо отбросить на время всю нашу любовную дребедень и немедленно начать строить конкретные планы, как заработать на жизнь…» – и так далее, в той манере, которая была свойственна ему в прежние времена.
Мы с ребятами пришли в эту квартирку без отопления. Дверь открыл Дин в трусах. С кушетки спрыгнула Мерилу. Перед нашим визитом Дин отправил владельца квартиры на кухню – вероятно, сварить кофе, – а сам возобновил свои любовные занятия, ведь секс был его подлинным призванием и единственным божеством, и верность этому божеству он нарушал лишь в силу необходимости трудиться, чтобы заработат
Страница 2
на жизнь. Волнуясь, он глядел в пол, подергивал и кивал головой, словно молодой боксер в ответ на наставления тренера, а чтобы не подумали, будто он пропустил хоть слово, вставлял тысячи «да» и «вот именно». В ту первую встречу меня поразило сходство Дина с молодым Джином Отри – стройный, узкобедрый, голубоглазый, с подлинным оклахомским выговором, – герой снежного Запада, отрастивший баки. Он и в самом деле, до того как жениться на Мерилу и приехать на Восток, работал на ранчо Эда Уолла в Колорадо. Мерилу была очаровательной блондинкой с морем вьющихся золотистых волос. Она сидела на краю кушетки, сложив руки на коленях, а ее наивные дымчато-голубые глаза были широко раскрыты и застыли в изумлении, ведь она попала в скверную, мрачную нью-йоркскую халупу, о каких была наслышана еще на Западе, и теперь чего-то ждала, напоминая женщину Модильяни – длиннотелую, истомленную, сюрреалистическую – в солидном кабинете. Однако милая маленькая Мерилу оказалась девицей недалекой, к тому же способной на дикие выходки. Той ночью мы все пили пиво, мерились силой рук и болтали до рассвета, а наутро, когда мы молча сидели, попыхивая в сером свете нового унылого дня собранными из пепельниц окурками, Дин нервно вскочил, походил, подумал и решил, что самое важное сейчас – заставить Мерилу приготовить завтрак и подмести пол.– Другими словами, нам следует действовать порасторопнее, дорогая, вот что я тебе скажу, а то все как-то зыбко, нашим планам не хватает четкости и определенности.
Потом я ушел.
Всю следующую неделю Дин пытался убедить Чеда Кинга в том, что тот просто обязан преподать ему уроки писательского мастерства. Чед сказал ему, что писатель – я, ко мне, мол, и надо обращаться. К тому времени Дин нашел работу на автостоянке, подрался с Мерилу в их квартирке в Хобокене – одному Богу известно, зачем они туда переехали, – а та совершенно обезумела и так жаждала мести, что донесла на него в полицию, выдвинув в припадке истерики дутое, нелепое обвинение, так что из Хобокена Дину пришлось уносить ноги. Поэтому жить ему теперь было негде. Он сразу же отправился в Патерсон, Нью-Джерси, где я жил со своей тетушкой, и вот как-то вечером, когда я работал, раздался стук в дверь и возник Дин.
Кланяясь и подобострастно расшаркиваясь во тьме коридора, он сказал:
– Привет, ты меня помнишь – Дин Мориарти? Я пришел учиться у тебя, как надо писать.
– А где Мерилу? – спросил я.
И Дин ответил, что она, скорее всего, заработала на панели несколько долларов и смоталась обратно в Денвер – «шлюха!». Мы отправились выпить пива, потому что не могли как следует поговорить при тетушке, которая сидела в гостиной и читала газету. Едва взглянув на Дина, она сразу же решила, что он сумасшедший.
В пивной я сказал Дину:
– Черт возьми, старина, я прекрасно понимаю, что ты не пришел бы ко мне только затем, чтобы стать писателем, да и знаю я об этом только одно – то, что в это дело надо врубаться с энергией бензедринщика…
Он же отвечал:
– Ну разумеется, мне эта мысль хорошо знакома, да я и сам сталкивался с подобными проблемами, но чего я хочу, так это реализации тех факторов, которые следует поставить в зависимость от дихотомии Шопенгауэра, потому что каждый внутренне осознанный… – и так далее, в том же духе, о вещах, в которых я ровным счетом ничего не смыслил и в которых сам он смыслил еще меньше моего.
В те времена он и сам не понимал собственных речей. Короче говоря, он был юным арестантом, зациклившимся на радужной перспективе сделаться подлинным интеллектуалом, и любил употребить в разговоре, правда слегка путаясь, словечки, которые слыхал от «подлинных интеллектуалов». Тем не менее, уверяю вас, в других вещах он не был столь наивен, и ему понадобилось всего несколько месяцев общения с Карло Марксом, чтобы полностью освоиться и с терминами, и с жаргоном. Несмотря ни на что, мы поняли друг друга на иных уровнях безумия, и я согласился, пока он не найдет работу, пустить его пожить, к тому же мы договорились когда-нибудь отправиться на Запад. Была зима 1947 года.
Как-то вечером, когда Дин ужинал у меня – он уже нашел работу на автостоянке в Нью-Йорке, – я сидел и барабанил на машинке, а он положил руку мне на плечо и сказал:
– Собирайся, старина, эти девицы ждать не будут, поторопись.
Я ответил:
– Подожди минуту, я только закончу главу, – а это была одна из лучших глав книги.
Потом я оделся, и мы помчались в Нью-Йорк на встречу с какими-то девицами. Когда мы ехали в автобусе сквозь таинственную фосфоресцирующую пустоту туннеля Линкольна, опираясь друг на друга, тыча пальцами в воздух, возбужденно и громко болтая, Диново помешательство начало передаваться мне. Он был всего лишь юношей, до умопомрачения опьяненным жизнью, и, будучи мошенником, мошенничал только потому, что очень хотел жить и иметь дело с людьми, которые иначе не обратили бы на него никакого внимания. Он надувал и меня, и я это знал (из-за жилья, харчей и того, «как-надо-писать»), а он знал, что я это знаю (и в этом суть наших отношени
Страница 3
), но мне было наплевать, и мы прекрасно ладили – не докучая и не угождая друг другу. Деликатные, словно новоиспеченные друзья, мы обхаживали друг друга на цыпочках. Я начал у него учиться так же, как он, вероятно, учился у меня. Что до моей работы, то он говорил:– Давай, давай, то, что ты делаешь, – великолепно!
Когда я писал рассказы, он заглядывал мне через плечо и орал:
– Да! Точно! Ого! Старина! – А еще: – Уфф! – и вытирал платком лицо, – Эх, старина, еще столько надо сделать, столько написать! Главное – начать бы все это записывать, да без всяких там лишних стеснений и препятствий вроде литературных запретов и грамматических страхов…
– Да, старина, вот это я понимаю!
И я видел нечто вроде священной молнии, рожденной на свет его волнением и его видениями, которые он обрисовывал так стремительно и многословно, что люди в автобусах оборачивались, чтобы разглядеть «перевозбужденного психа». Треть своей жизни на Западе он провел, играя на тотализаторе, треть – в тюрьме и треть – в публичной библиотеке. Видели, как он, нагруженный книгами, опрометью мчится с непокрытой головой по зимним улицам в тотализаторный зал автодрома или как карабкается по деревьям на чердаки своих приятелей, где он сутками читал, а то и скрывался от полиции.
Мы приехали в Нью-Йорк – чуть не забыл, с чего все началось – две цветные девицы, – и никаких девиц там не оказалось. Они должны были встретиться с Дином в дешевом ресторанчике, но так и не появились. Мы отправились на автостоянку, где у него были кое-какие дела: надо было переодеться в глубине домика, наскоро привести себя в порядок перед треснувшим зеркалом и все такое, а потом мы тронулись в путь. Именно в тот вечер Дин познакомился с Карло Марксом. И знакомство Дина с Карло Марксом имело потрясающие последствия. С их обостренным восприятием они сразу же приохотились друг к другу. Проницательный взгляд одного встретился с проницательным взглядом другого – святой мошенник с душой нараспашку повстречал печального мошенника-поэта с темной душой – Карло Маркса. С той минуты я видел Дина очень редко и был этим немного расстроен. Столкнулись во всеоружии их кипучие энергии, и мне, неуклюжему, было за ними не угнаться. Тогда и началось все, что должно было случиться, тогда и поднялся весь этот безумный вихрь; он затянет всех моих друзей и все, что осталось от моей семьи, в большое облако пыли над Американской Ночью. Карло рассказывал Дину о Старом Буйволе Ли, Элмере Хасселе, Джейн. Ли выращивает травку в Техасе, Хассел – на острове Райкер[1 - Тюрьма в штате Нью-Йорк (здесь и далее – прим. перев.).], Джейн с ребенком на руках блуждает в бензедриновых галлюцинациях по Таймс-сквер и оказывается в Бельвью[2 - Психиатрическая лечебница в Нью-Йорке.]. А Дин рассказал Карло о неизвестных людях с Запада – вроде Томми Снарка, косолапого шулера с автодромного тотализатора, картежника и юродивого. Он рассказал ему о Рое Джонсоне, о Детине Эде Данкеле – приятелях детства, своих уличных дружках, о своих бесчисленных девицах, о сексуальных вечеринках и порнографических открытках, о своих героях, героинях и приключениях. Они вместе носились по улицам, врубаясь во все в своей тогдашней манере, которая позже стала куда более печальной, стала вдумчивой и бессмысленной. Но тогда они приплясывали на улицах как заведенные, а я плелся сзади, как всю жизнь плетусь за теми, кто мне интересен, потому что интересны мне одни безумцы – те, кто без ума от жизни, от разговоров, от желания быть спасенным, кто жаждет всего сразу, кто никогда не скучает и не говорит банальностей, а лишь горит, горит, горит, как фантастические желтые римские свечи, которые пауками распускаются в звездном небе, а в центре возникает яркая голубая вспышка, и тогда все кричат: «Ого-o-о!» Как называли таких молодых людей в Германии во времена Гёте? Страстно желая научиться писать, как Карло, Дин тотчас отдал ему любвеобильное пылкое сердце – такое, какое может быть только у плута.
– Теперь, Карло, дай мне сказать… вот что я скажу…
Я не видел их недели две, и за это время они скрепили свои отношения неразрывными, дьявольскими узами круглосуточных разговоров.
Потом настала весна – прекрасное время путешествий, и каждый, кто входил в эту разрозненную шайку, готовился пуститься в свой путь. Я был поглощен работой над романом, а когда дошел до середины, съездил с тетушкой на Юг к моему брату Рокко и был готов к самому первому путешествию на Запад.
Дин к тому времени уже уехал. Мы с Карло провожали его на автовокзале компании «Грейхаунд» на 34-й улице. Там, наверху, можно было за двадцать пять центов сфотографироваться. Карло снял очки и приобрел мрачный вид. Дин сфотографировался в профиль и стыдливо огляделся. Я позировал, глядя в объектив, отчего стал похож на тридцатилетнего итальянца, который убьет любого, кто скажет хоть слово против его матери. Эту фотографию Карло с Дином аккуратно разрезали пополам бритвой, и каждый положил свою половинку себе в бумажник. Дин, отправляясь в долгий обратный путь в Денвер,
Страница 4
нарядился в пиджачную пару настоящего жителя Запада; кончилось его веселое житье в Нью-Йорке. Я говорю «веселое», он же только и делал, что работал как вол на автостоянках. Самый эксцентричный служитель автостоянок на свете, он может в жуткой давке подать задним ходом со скоростью сорок миль в час и остановить машину у самой стены, выпрыгнуть, промчаться между боками автомобилей, вскочить в другую машину, покружить на ней в тесноте со скоростью пятьдесят миль в час, выбрать тесный пятачок, вновь подать задом, сгорбиться и так наподдать по тормозам, что машина подпрыгивает, когда он из нее вылетает; затем, словно заправский спринтер, прямиком в будку кассира, отдать квитанцию, вскочить в только что прибывшую машину, владелец которой еще и наполовину не вылез, буквально прошмыгнуть под ним, пока тот делает шаг наружу, запустить мотор, одновременно захлопнув дверцу, с ревом домчаться до ближайшего свободного пятачка, согнуться, что-то вставить, включить тормоза, выскочить – и бегом. И так без единой паузы, восемь часов каждый вечер – вечерние часы «пик» и послетеатральные часы «пик», в промасленных, залитых вином штанах, поношенной, отороченной мехом куртке и стоптанных шлепающих башмаках. И вот он купил новый костюм, чтобы отправиться в обратный путь; синий костюм в тонкую полоску, жилет и все такое – одиннадцать долларов на Третьей авеню, да еще часы с цепочкой и портативную пишущую машинку, с помощью которой он собирался начать писать в каком-нибудь денверском пансионе, как только найдет работу. На прощание мы полакомились сосисками с бобами у «Райкера» на Седьмой авеню, а потом Дин сел в автобус с надписью «Чикаго» и умчался в ночь. Вот и уехал наш ковбой. Я дал себе слово отправиться тем же путем, когда весна будет в разгаре и расцветет вся страна.Именно с этого и начались мои дорожные приключения, и то, что ждало меня впереди, слишком невероятно и просто требует рассказа.
Да, я хотел узнать Дина поближе не только потому, что был писателем и нуждался в новых впечатлениях, а моя жизнь, связанная с университетским городком, достигла завершения своего цикла и стала бессмысленной, но еще и потому, что каким-то образом, несмотря на несхожесть наших характеров, он напоминал мне некоего давно потерянного брата. При взгляде на его страдающее скуластое лицо с длинными баками и напряженную, мускулистую потную шею я вспоминал детство на свалках красилен, в купальнях и на берегах Пассейика в Патерсоне. Грязная рабочая одежда сидела на Дине так изящно, словно столь элегантный костюм был произведением не простого портного, а Природного Закройщика Природной Радости, да и тот еще надо было заслужить, что Дин и сделал – ценою своих невзгод. А в его возбужденной манере говорить мне вновь слышались голоса старых товарищей и братьев под мостом, среди мотоциклов, в завешанных бельем дворах и на сонных послеполуденных крылечках, где играли на гитарах мальчишки, пока их старшие братья были на фабрике. Все прочие мои тогдашние друзья были «интеллектуалами»: Чед – антрополог-ницшеанец, Карло Маркс с его серьезным пристальным взглядом, тихим голосом и безумными сюрреалистическими речами, Старый Буйвол Ли, ругавший все на свете, манерно растягивая слова. Или же это были преступники в бегах, вроде Элмера Хассела с его глумливой усмешкой и той же Джейн Ли, которая, развалившись на кушетке с восточным покрывалом, шмыгала носом, уставившись в «Нью-Йоркер». Но Дин обладал ничуть не менее здравым, блестящим и совершенным умом, к тому же без всей этой утомительной интеллектуальности. Да и в «уголовщине» его не было ни глумления, ни злости. Это был дикий положительный взрыв американского восторга; это был Запад, западный ветер, ода с Равнин, нечто новое, давно предсказанное и долгожданное (автомобили он угонял только потому, что любил кататься). К тому же все мои нью-йоркские друзья стояли на маниакальной пессимистической позиции критики общества и подводили под нее опостылевшую книжную, политическую или психоаналитическую базу. А Дин попросту мчался внутри общества, страстно желая хлеба и любви. И ему было безразлично все остальное, «пока я могу заполучить эту девчонку вместе с кое-чем промеж ног, старина», и «пока мы в состоянии жрать, сынок, слышишь меня? я голоден, я просто умираю с голодухи, давай немедленно поедим!» – и мы мчались есть, ведь, как сказано у Экклезиаста: «Это твоя доля под солнцем».
Дин, западный родственник солнца. Хоть тетушка и предупреждала, что он доведет меня до беды, я в молодые годы был способен услышать новый зов, увидеть новые горизонты и поверить и в то и в другое. А мелкие неприятности или даже то, что Дин вполне мог забыть о нашей дружбе, бросив меня на берущих голодным измором тротуарах или прикованным к постели, – какое все это имело значение? Я был молодым писателем, я хотел отправиться в путь.
Я знал, что где-то в пути будут девушки, будет все, и где-то в пути жемчужина будет мне отдана.
2
В июле 1947 года, накопив долларов пятьдесят из старых ветеранских пособий, я был готов
Страница 5
ехать на Западное Побережье. Мой друг Реми Бонкур написал мне из Сан-Франциско, пригласив приехать и отправиться с ним в плавание на океанском лайнере. Он ручался, что устроит меня механиком в машинное отделение. Я ответил, что был бы рад любому грузовому суденышку и готов предпринять не одно плавание по Тихому океану, лишь бы привезти достаточно денег, чтобы продержаться в тетушкином доме и закончить книгу. Реми сообщил, что в Милл-Сити у него есть домик, где я смогу вволю писать, пока не закончится катавасия с устройством на корабль. Жил он с девушкой по имени Ли Энн. Он уверял, что она прекрасно готовит и все будет на высшем уровне. Реми был моим старым школьным другом, французом, воспитанным в Париже, и настоящим безумцем – а насколько он был безумен в то время, я и не подозревал. Он ждал меня не позже чем через десять дней. Тетушка восприняла весть о моей поездке на Запад с энтузиазмом; она сказала, что мне это будет полезно, ведь я всю зиму упорно трудился и слишком долго сидел взаперти. Она даже не стала возражать, когда я признался ей, что иногда придется добираться на попутных машинах. Хотела она только одного – чтобы я вернулся целым и невредимым. И вот, оставив на столе свою пухлую полурукопись и в последний раз скатав уютные домашние простыни, в одно прекрасное утро я вышел из дома с парусиновым мешком, в котором было только самое необходимое, и с пятьюдесятью долларами в кармане направился к Тихому океану.В Патерсоне я месяцами сидел над картами Соединенных Штатов, даже читал книги про первых поселенцев, смакуя такие названия, как Платте, Симаррон и прочие, а на дорожной карте была одна длинная красная линия под названием «Дорога 6», которая тянулась от оконечности мыса Код до самого Или, штат Невада, а там спускалась вниз, к Лос-Анджелесу. Вот по «шестерке» я и поеду до самого Или, сказал я себе и, уверенный в успехе своего предприятия, тронулся в путь. Чтобы добраться до «шестерки», я должен был подняться к Медвежьей горе. В предвкушении великих дел, которые ждут меня в Чикаго, Денвере и, наконец, в Сан-Франциско, я сел в подземку на Седьмой авеню и доехал до конца – до 242-й улицы, а оттуда трамваем добрался до Йонкерса. В центре Йонкерса я пересел на трамвай, который довез меня до самой городской черты на восточном берегу реки Гудзон. Если вы уроните розу в Гудзон у его таинственных истоков в горах Адирондака, подумайте обо всех тех местах, мимо которых она пропутешествует, прежде чем навсегда исчезнуть в море, – подумайте о прекрасной долине Гудзона. Я начал свой подъем на попутках. За пять рейсов я добрался до желанного моста Медвежьей горы, где дугой шла из Новой Англии Дорога 6. Когда меня там высадили, начался проливной дождь. Кругом были горы. Дорога 6, придя из-за реки, огибала транспортную развязку и терялась среди девственной природы. Мало того что не было машин, так еще и дождь лил как из ведра, а укрыться было негде. Пришлось искать убежища под соснами, однако и это не спасало. Я орал, ругался и бил себя по лбу, недоумевая, почему оказался таким круглым идиотом. Нью-Йорк остался в сорока милях к югу. В течение всего подъема мне не давало покоя то, что в этот знаменательный первый день я только и делаю, что двигаюсь на север, а вовсе не в сторону вожделенного Запада. И вот я прочно застрял на своей самой северной остановке. Пробежав четверть мили до уютной, в английском стиле, заброшенной заправочной станции, я встал под карниз, с которого падали крупные капли. Лесистая громада Медвежьей горы обрушивала на меня с высоты внушающие священный ужас удары грома. Видны мне были лишь размытые очертания деревьев да уходящая в небеса мрачная дикая местность. «Какого черта я торчу тут наверху? – Проклиная себя, я рыдал от желания попасть в Чикаго. – В эту самую минуту все они веселятся, наверняка веселятся, а меня с ними нет, когда же я туда доберусь?!» – и все такое. Наконец у пустой бензоколонки остановилась машина. Сидевшие в ней мужчина и две женщины решили изучить карту. Я вышел из-под своего укрытия и принялся жестикулировать под дождем. Они посовещались. Конечно, с мокрой головой и в хлюпающих башмаках я был похож на маньяка. На ноги я, круглый дурак, надел мексиканские гуарачи – нечто вроде решета из прутьев, совершенно не приспособленного ни для дождливой американской ночи, ни для сырой ночной дороги. И все же эти люди пустили меня в машину и отвезли назад, в Ньюберг, что я счел за благо по сравнению с перспективой проторчать всю ночь в дикой безлюдной западне у Медвежьей горы.
– К тому же, – сказал мужчина, – по «шестерке» транспорт не ходит. Если хочешь попасть в Чикаго, лучше проехать по туннелю Холланда в Нью-Йорке и направиться в сторону Питсбурга.
И я знал, что он прав. Лопнула моя мечта, нелепая домашняя затея безмятежно прокатить через всю Америку по одной длинной красной линии, не испытывая разные дороги и маршруты.
В Ньюберге дождь кончился. Я пешком спустился к реке, откуда мне пришлось вернуться в Нью-Йорк на автобусе вместе с группой школьных учителей, про
Страница 6
одивших выходные в горах, – болтовня, тары-бары, а я проклинал себя за потерянное время, за потраченные деньги и за то, что, собираясь поехать на запад, весь день и полночи катался вверх-вниз с юга на север и обратно, а с места так и не сдвинулся. И я поклялся, что завтра же буду в Чикаго, и для пущей убедительности взял билет на чикагский автобус, потратив при этом львиную долю денег, на что мне было уже наплевать, ведь назавтра меня ждал Чикаго.3
Сперва это была обычная автобусная поездка с орущими детьми, палящим солнцем и сельскими жителями, входившими в автобус в каждом городке Пенсильвании, но потом мы добрались до равнин Огайо, по-настоящему разогнались, проехали Аштабьюлу и в ночи пересекли Индиану. В Чикаго я попал ранним утром, снял комнату в общежитии Христианской Ассоциации и завалился спать. Деньги уже подходили к концу. К вечеру я отменно выспался и отправился изучать город.
Ветер с озера Мичиган, «боп» в «Петле»[3 - Бар в одноименном районе Чикаго.], прогулки в районе Саут-Холстеда и Норт-Кларка и одна долгая послеполуночная прогулка в район притонов, куда меня, приняв за подозрительного типа, сопровождала полицейская машина. В то время, в 1947-м, по Америке прокатилась безумная волна «бопа». Вот и в «Петле» музыканты играли, правда, со скучающим видом, потому что «боп» к тому времени уже миновал орнитологический период Чарли Паркера, не вступив еще в следующий, который начался позднее, с Майлза Дэвиса. И когда я сидел там, вслушиваясь в ту мелодию ночи, символом которой для каждого из нас стал «боп», я думал обо всех моих друзьях, разбросанных по стране, думал о том, что на самом-то деле все они живут на одном громадном заднем дворе нашего общего дома, и бесятся там, и мчатся по нему неизвестно куда. А на следующий день я впервые в жизни направился на Запад. Был теплый, идеальный для автостопа день. Чтобы выбраться из невероятной толчеи чикагских улиц, я доехал в автобусе до Джолиета, Иллинойс. Миновав джолиетскую тюрьму и пройдя по кривым тенистым улочкам, я занял пост у городской черты и вытянул руку. Весь путь от Нью-Йорка до Джолиета я проделал на автобусе и уже истратил добрую половину денег.
Первая поездка была на груженном динамитом грузовике с красным флажком – миль тридцать в глубь бескрайнего зеленого Иллинойса. Водитель показал мне место, где Дорога 6, по которой мы ехали, пересекается с Дорогой 66, и откуда обе они устремляются в невероятную даль, на запад. Около трех часов дня, после яблочного пирога со сливочным мороженым в придорожном буфете, на мой призыв остановилась женщина в двухместном автомобильчике. Мчась к машине, я испытал приступ мучительного восторга, однако за рулем сидела женщина средних лет, к тому же имевшая сыновей, моих ровесников. Она хотела, чтобы кто-нибудь помог ей довести машину до Айовы, на что я охотно согласился. Айова! Там уж и до Денвера недалеко, а как только доберусь до Денвера, я смогу наконец сделать передышку. Первые несколько часов машину вела она и где-то по дороге – как будто мы были туристами! – уговорила меня осмотреть старую церквушку, а потом за руль сел я и, хоть не такой уж я великий шофер, проехал без остановок всю оставшуюся часть Иллинойса до самого Давенпорта, Айова, через Рок-Айленд. И там, впервые в жизни, я увидел любимую свою реку Миссисипи, сохнущую в летней дымке, обмелевшую, с ее резким дурманящим запахом, напоминающим запах обнаженного тела самой Америки, потому что река его омывает. Рок-Айленд – железнодорожные пути, лачуги, небольшой деловой район, – и через мост, в Давенпорт, такой же городок, насквозь пропахший опилками в лучах теплого среднезападного солнца. Оттуда моей даме предстояло отправиться в свой родной город в Айове другой дорогой, и я вылез из машины.
Садилось солнце. Выпив пару кружек холодного пива, я пошел пешком к окраине города, и идти пришлось долго. Ехали с работы мужчины в железнодорожных фуражках, бейсбольных кепках, всевозможных шляпах – все в точности как в любом другом городе после рабочего дня. Один из них подвез меня вверх по склону холма и высадил на пустынном перекрестке у края прерии. Место было чудесное. Попадались только фермерские машины. Фермеры бросали на меня подозрительные взгляды, машины громыхали мимо; возвращались домой коровы. Ни одного грузовика. Со свистом проносились редкие легковушки. В одной мелькнул юный лихач с развевающимся шарфом. Солнце уже село, а я все стоял в лиловом сумраке. И тогда мне стало не по себе. В сельской местности Айовы не горел ни один огонек; через минуту уже никто не смог бы меня заметить. К счастью, меня подбросил к центру городка парень, ехавший в Давенпорт. И я оказался там, откуда пришел.
Я решил посидеть на автобусной станции и все обдумать. Съел еще один яблочный пирог со сливочным мороженым. В пути через страну я почти ничего больше не ел: я знал, что это питательно и к тому же вкусно. Поглазев на официантку в кафе автовокзала, я решил рискнуть, сел в автобус в центре Давенпорта и доехал до самой окраины, однако на этот р
Страница 7
з вышел поблизости от бензозаправочной станции. Мимо с ревом проносились большие грузовики, и не прошло и двух минут, как один из них с визгом затормозил. Исполненный ликования, я бросился к нему. А что за водитель! – настоящий здоровенный головорез с глазами навыкате и хриплым скрипучим голосом. Колошматя руками и ногами по рычагам и педалям, он гнал себе машину вперед и не обращал на меня почти никакого внимания. Так что я мог дать небольшой роздых своей утомленной душе, ведь самая большая беда езды на попутках – это необходимость разговаривать с бесчисленным множеством людей, убеждать их в том, что они не совершили ошибки, взяв вас в попутчики, чуть ли не развлекать их, а все это требует огромного напряжения, особенно когда вы только и делаете, что едете и не собираетесь ночевать в гостинице. Этот же малый знай себе оглашал своим криком дорогу, мне оставалось лишь орать в ответ, и мы нисколько не напрягались. Так он и докатил свою машину до самого Айова-Сити, выкрикивая мне забавнейшие истории о том, как он объезжает закон в каждом городишке, где существуют несправедливые ограничения скорости, и то и дело повторяя: «Меня-то этим гнусным легавым вокруг пальца не обвести!» Как только мы прикатили в Айова-Сити, он увидел позади нас еще один грузовик и, так как должен был сворачивать на другую дорогу, мигнул тому малому стоп-сигналом и притормозил, давая мне возможность выпрыгнуть, что я и сделал, захватив свой мешок. А второй грузовик, подтверждая согласие на обмен, остановился, и я в мгновение ока оказался в другом просторном высоком экипаже, вполне готовом ехать сотни миль сквозь ночь, и как же я был счастлив! И новый шофер оказался таким же психом, как и его предшественник, и орал ничуть не меньше, а мне только и оставалось, что откинуться на сиденье и отдаться воле волн. Теперь я уже почти видел Денвер, неясно вырисовывающийся впереди, подобно Земле Обетованной – вдали под звездами, за прериями Айовы и равнинами Небраски, – а там, еще дальше, мне представлялась еще более величественная панорама Сан-Франциско, похожего на драгоценное ожерелье ночи. Шофер гнал грузовик вперед и часа два рассказывал истории, потом, в одном городишке в Айове, где через несколько лет нас с Дином остановят по подозрению в том, что наша машина напоминает угнанный «кадиллак», он заснул на несколько часов на сиденье, поспал немного и я, а проснувшись, прогулялся вдоль унылых кирпичных стен, освещенных единственным фонарем. Каждая улочка терялась в прерии, а запах кукурузы освежал ночь, точно роса.На рассвете шофер резко проснулся, и мы помчались дальше, а через час впереди, над зелеными кукурузными полями, показался дым Де-Мойна. Водителю надо было позавтракать, ему некуда было спешить, и мили четыре до Де-Мойна я проехал, подсев к двум парням из Айовского университета. Непривычно было сидеть в их новенькой удобной машине и слушать, как они болтают об экзаменах, пока мы плавно вкатываем в город. Я уже валился с ног от усталости и поэтому в надежде снять комнату отправился в Молодежную христианскую ассоциацию. Свободных комнат не было, и я машинально добрел до железнодорожных путей – а в Де-Мойне их полно, – попал в мрачную старую гостиницу «Равнины» рядом с паровозным депо – настоящий постоялый двор – и весь долгий день проспал на просторной кровати с белоснежными крахмальными простынями. На стене у изголовья были вырезаны похабные надписи, а видавшие виды желтые шторы заслоняли от меня дымную сортировочную станцию. Проснулся я, когда багровое солнце уже клонилось к закату. И в это совершенно особое, самое удивительное мгновение моей жизни я вдруг забыл, кто я такой. Я находился далеко от дома, в дешевом гостиничном номере, каких никогда не видывал, был возбужден и утомлен путешествием, слышал шипение пара снаружи, скрип старого дерева гостиницы, шаги наверху и прочие печальные звуки, я смотрел на высокий потрескавшийся потолок и в течение нескольких необыкновенных секунд никак не мог вспомнить, кто я такой. Я не был напуган. Просто я был кем-то другим, неким незнакомцем, и вся моя жизнь была жизнью неприкаянной, жизнью призрака. Я проехал пол-Америки, добрался до пограничной линии, отделявшей Восток моей юности от Запада моего будущего, и потому-то, быть может, и произошло такое именно там и именно тогда, в тот странный багровый предвечерний час.
Однако пора было кончать с меланхолией и ехать дальше, поэтому я взял свой мешок, распрощался со старым хозяином гостиницы, сидевшим возле плевательницы, и отправился перекусить. Я съел яблочный пирог со сливочным мороженым – по мере того как я продвигался в глубь Айовы, и то и другое становилось лучше: пирог больше, мороженое жирнее. В тот день в Де-Мойне, куда бы я ни взглянул, всюду на глаза мне попадались стайки очаровательных девушек – они возвращались домой из школы, – но пока на подобные дела у меня не было времени, и я дал себе слово насладиться жизнью в Денвере. В Денвере уже был Карло Маркс. Там был Дин. Там были Чед Кинг и Тим Грэй – это же их родной город. Там была М
Страница 8
рилу. И еще я слышал о большой компании, куда входили Рэй Роулинс со своей красивой белокурой сестрой Бейб Роулинс, две официантки, подружки Дина – сестры Беттенкорт, и даже Роланд Мейджор, мой старый однокашник-писака, – и тот был там. Я с радостью и нетерпением предвкушал встречу со всеми этими людьми. Поэтому я несся вперед, мимо красивых девушек, а в Де-Мойне живут самые красивые девушки на свете.Какой-то малый с настоящим инструментальным складом на колесах – грузовиком, полным инструментов, которым он управлял стоя, как это принято у нынешних молочников, – привез меня на вершину пологого холма, где меня сразу же взяли к себе в машину фермер с сыном, направлявшиеся в Эйдел, штат Айова. В этом городе, под громадным вязом возле бензоколонки, я познакомился с еще одним путешественником на попутках, типичным ньюйоркцем, ирландцем, который почти всю жизнь проработал водителем почтового грузовика, а теперь направлялся в Денвер – к девушке и навстречу новой жизни. По-моему, в Нью-Йорке ему что-то угрожало, скорее всего – закон. Этот отъявленный красноносый молодой пьянчуга лет тридцати, по идее, должен был мне быстро наскучить, если бы душа моя не была распахнута навстречу любому человеческому общению. Одет он был в заношенный свитер и мешковатые брюки и не имел при себе ничего даже отдаленно напоминающего сумку – ничего, кроме зубной щетки и носовых платков. Он предложил добираться до Денвера вместе. Мне бы следовало отказаться, потому что вид он на дороге имел жутковатый. Однако мы объединились, и какой-то неразговорчивый парень подвез нас до Стюарта, Айова, городка, в котором мы крепко сели на мель. Стоя перед будкой железнодорожного кассира в Стюарте, мы до захода солнца, добрых пять часов ждали попутного транспорта на Запад и сначала коротали время рассказами о себе, потом он выдал несколько похабных анекдотов, а в конце концов мы попросту принялись отшвыривать ногами камешки и бестолково шуметь. Нас одолевала скука. Я решил истратить доллар на пиво; мы зашли в Стюарте в старую пивнушку и немного выпили. И попутчик мой напился там точно так же, как делал это на Девятой авеню, возвращаясь вечерами домой. Восторженно и громко пересказал он мне на ухо все низменные желания своей жизни. Мне он по-своему понравился; не потому, что был славным малым, как выяснилось позднее, а из-за его восторженности по отношению ко многим вещам. На дорогу мы вернулись, когда стемнело, и никто, конечно, не остановился, да и мало кто проезжал мимо. Так продолжалось до трех часов утра. Какое-то время мы пытались уснуть на скамейке железнодорожной кассы, однако всю ночь щелкал телеграф, и сон никак не шел, вдобавок снаружи громыхали большие товарняки. Мы не умели вскакивать на ходу: раньше мы этого никогда не делали. Мы не знали, на восток они едут или на запад, не знали, как это выяснить, куда надо прыгать – в крытые вагоны, на вагоны-платформы, в размороженные рефрижераторы – все это нам было неведомо. Поэтому, когда перед самым рассветом подошел автобус до Омахи, мой попутчик вскочил в него и тут же присоединился к спящим пассажирам – я оплатил и его проезд, и свой. Его звали Эдди. Он напоминал мне двоюродного брата моей жены из Бронкса. Поэтому я к нему и привязался. Он казался мне старым другом, улыбчивым добродушным малым, с которым можно вволю подурачиться.
На рассвете мы прибыли в Каунсил-Б лафс. Я выглянул в окошко. Всю зиму я читал о многочисленных отрядах переселенцев, которые держали там совет, прежде чем отправиться в своих фургонах по тропам Орегона и Санта-Фе. Теперь же там, разумеется, были только живописные пригородные коттеджи, окутанные унылой серой рассветной пеленой. Потом – Омаха, и – ей-богу! – первый увиденный мною ковбой, который шел вдоль мрачных стен оптовых мясных складов в десятигаллоновой шляпе и техасских сапогах и, если не считать наряда, ничем не отличался от любого потрепанного типа с Востока, где над такими же кирпичными стенами встает то же самое солнце. Мы вышли из автобуса и поднялись на самую вершину холма, пологого холма, тысячелетиями формировавшегося на берегу величественной Миссури, близ которой выросла Омаха. Выбравшись в сельскую местность, мы остановились и принялись голосовать. На короткое расстояние нас подвез богатый скотовод в десятигаллоновой шляпе, который утверждал, что долина Платте по красоте ничуть не уступает долине Нила в Египте, и едва он это сказал, как я увидел вдали вереницу высоких деревьев, змеящуюся вдоль русла реки, и бескрайние зеленеющие поля по обоим берегам и готов был с ним согласиться. Потом, когда мы голосовали на другом перекрестке и небо начинало хмуриться, еще один ковбой, на этот раз шести футов ростом и в скромной полугаллоновой шляпе, подозвал нас и спросил, не умеем ли мы водить машину. Эдди, конечно, умел, и у него, в отличие от меня, были права. Ковбой перегонял в Монтану два автомобиля. В Гранд-Айленде его ждала жена, и он хотел, чтобы мы пригнали туда одну из машин, а уж там за руль сядет она. Оттуда он собирался на север, и дальше нам с ни
Страница 9
было не по пути. Однако это все-таки значило добрых сто миль в глубь Небраски, и мы ухватились за это предложение. Эдди вел машину один, мы с ковбоем ехали сзади, и не успели мы выбраться из города, как Эдди от избытка чувств принялся выжимать не меньше девяноста миль в час.– Будь я проклят, что он делает! – заорал ковбой, бросившись в погоню.
Это начинало походить на гонки. В какой-то момент я решил, что Эдди хочет улизнуть вместе с машиной – и как знать, может, именно это он и собирался сделать. Но ковбой его не отпустил, он поравнялся с его машиной и дал гудок. Эдди сбавил скорость. Ковбой просигналил ему остановиться.
– Черт возьми, приятель, на такой скорости недолго превратиться в лепешку. Нельзя ли немного помедленней?
– Да черт меня подери, неужто я и впрямь выдал девяносто? – спросил Эдди. – На такой ровной дороге я и не заметил.
– Ты не слишком-то усердствуй, может, мы тогда и доберемся до Гранд-Айленда целехонькими.
– Ясное дело.
И мы вновь тронулись в путь. Эдди присмирел, а может быть, даже захотел спать. Так мы проехали сотню миль по Небраске, следуя вдоль извилистой Платте с ее зеленеющими полями.
– Во времена депрессии, – сказал мне ковбой, – я чуть ли не каждый месяц вскакивал на ходу в товарный поезд. В те дни люди сотнями набивались на грузовую платформу или в товарный вагон, это были не просто бродяги – кого там только не было, и все потеряли работу, все кочевали с места на место, а кое-кто и вовсе блуждал по свету без всякой цели. И так по всему Западу. В те времена тормозные кондуктора никого не трогали. Не знаю, как сейчас. Да и что проку в этой Небраске? Тогда, в середине тридцатых, это место было сплошным облаком пыли – куда ни глянь, всюду пыль. Нечем было дышать. Земля почернела. Пускай вернут Небраску индейцам, я не возражаю. Для меня это самое ненавистное место в мире. Теперь мой дом Монтана – Миссула. Приезжай как-нибудь, увидишь райский уголок.
Ближе к вечеру, когда он устал говорить, я заснул. Он был хорошим рассказчиком.
В пути мы остановились перекусить. Ковбой направился отдать в ремонт запасную покрышку, а мы с Эдди устроились в ресторанчике с домашней кухней. И тут раздался громкий смех, самый чудесный смех на свете, и в ресторанчик в сопровождении целой компании вошел настоящий кондовый небрасский фермер. В тот день его рокочущий хохот разносился по всей равнине, по всему серому миру равнин. И все смеялись вместе с ним. А ему все было нипочем, и к каждому он относился с крайним почтением. Ого, сказал я себе, послушай, как смеется этот парень! Это же Запад, вот я и на Западе. Он с шумом ворвался в ресторанчик, окликнул хозяйку по имени, и та испекла самый сладкий во всей Небраске вишневый пирог, от которого и мне достался кусок, увенчанный горкой сливочного мороженого.
– Сваргань-ка мне, хозяюшка, чего-нибудь пошамать, пока я самого себя в сыром виде не слопал, а то и не натворил чего поглупее! – И он упал на табурет и зашелся своим «хау-хау-хау-хау!». – И брось туда немного бобов!
Сам дух Запада сидел рядом со мной. Я пожалел, что не знаю ничего о его грешной жизни, не знаю, чем же, черт возьми, он всю жизнь занимается, кроме того что так вот хохочет и орет. «Э-э-эх!» – восторженно пропел я в душе, и тут вернулся ковбой, и мы отправились в Гранд-Айленд.
Добрались мы туда в мгновение ока. Ковбой заехал за женой и направился навстречу своей судьбе, а мы с Эдди вновь вышли на дорогу. Нас взяли к себе двое ребят – пастухи, сельские подростки в ветхой самодельной колымаге – и высадили где-то по дороге, под моросящим дождем. Потом старик, который не произнес ни слова – и одному Богу известно, почему он нас подобрал, – довез нас до Шелтона. Там Эдди в отчаянии застыл на дороге напротив колоритной компании низкорослых, коренастых омахских индейцев, которым некуда было идти и нечего было делать. По ту сторону дороги, у железнодорожного полотна, стояла цистерна для воды с надписью «Шелтон».
– Черт меня подери, – изумленно произнес Эдди, – я ведь уже бывал в этом городишке! Это было много лет назад, во время войны, ночью, поздней ночью, когда все спали. Я вышел на платформу покурить – и вот те на! – мы попали прямо в никуда, темень хоть глаз выколи, я поднял голову и увидел надпись «Шелтон» на той же самой цистерне. Ехали мы к Тихому океану, все эти чертовы безмозглые бездельники храпели, а мы остановились всего на несколько минут – наверно, запастись топливом, а потом двинулись дальше. Черт меня подери, это же Шелтон! Я всегда ненавидел это место, с тех самых пор!
В Шелтоне мы и застряли. Как и в Давенпорте, Айова, все машины почему-то оказывались фермерскими, лишь время от времени попадались туристские автомобили, что еще хуже – со стариками за рулем и их женами, тычущими пальцем в достопримечательности или изучающими карту, а то и с недоверием оглядывающими все вокруг, откинувшись на сиденье.
Дождь усилился, и Эдди схватил насморк: одет он был очень легко. Я извлек из своего парусинового мешка шерстяную клетчатую рубаху, и он ее
Страница 10
надел. Ему стало немного лучше. Зато простудился я. В какой-то покосившейся индейской лавчонке я купил пастилки от кашля. Потом я зашел в крошечную, тесную почтовую контору и отправил тетушке грошовую открытку. Мы вернулись на мрачную дорогу. И вновь она была прямо напротив нас, эта надпись «Шелтон» на цистерне. Мимо пронесся «Рок-Айленд». Замелькали размытые черты пассажиров пульмановских вагонов. Поезд с воем унесся по равнинам туда, куда мы так вожделенно стремились. Хлынул настоящий ливень.Остановив машину на левой стороне дороги, к нам направился долговязый человек в галлоновой шляпе. Он был похож на шерифа. Каждый из нас принялся наскоро сочинять свою небылицу. Он не спеша подошел.
– Вы, ребята, едете, чтобы куда-то добраться, или просто едете?
Мы не поняли его вопроса, а это был чертовски хороший вопрос.
– А что? – спросили мы.
– Просто я владелец разъездных аттракционов, они сейчас стоят в нескольких милях отсюда по этой дороге, и мне нужны ребята, которые не прочь подзаработать. У меня есть концессия на рулетку и концессия на деревянные обручи – знаете, хочешь попытать счастья – попробуй набросить их на кукол. Захотите на меня работать – получите тридцать процентов выручки.
– А жилье и харчи?
– Койку получите, а еду нет. Есть придется в городе. Мы же переезжаем с места на место.
Мы задумались.
– Это хороший шанс, – сказал он и стал терпеливо дожидаться нашего решения.
Мы были ошарашены и не знали, что сказать. Что до меня, то я не желал связываться ни с какими аттракционами. Мне страшно хотелось поскорее добраться до своей денверской шайки.
– Даже и не знаю, – сказал я, – по правде говоря, я очень спешу, боюсь, у меня просто нет времени.
Эдди ответил то же самое, и тогда старик махнул рукой, ленивой походкой вернулся к машине и уехал. Только мы его и видели. Ненадолго это привело нас в веселое расположение духа, и мы принялись фантазировать, что бы из всего этого вышло. Мне представился темный пыльный вечер на равнинах, представилось, как бредут мимо небрасские семьи с их румяными детишками, которые с благоговением смотрят вокруг, и я понял, что мне было бы просто противно дурачить их всеми этими дешевыми балаганными трюками. Да еще и чертово колесо, крутящееся в двухмерной тьме, и – Боже милостивый! – печальная музыка карусели, и надо немедленно ехать – а я сплю на мешковине в каком-нибудь золоченом фургоне.
Попутчиком Эдди оказался довольно рассеянным. Мимо нас прокатил странный ветхий драндулет, которым управлял старик. Сооружен он был, кажется, из алюминия и по форме напоминал ящик – без сомнения, это был трейлер, но невообразимый, шаткий самодельный небрасский трейлер. Старик, который ехал очень медленно, остановился. Мы бросились к нему, а он заявил, что может взять только одного. Эдди, ни слова не говоря, вскочил в машину, которая с грохотом неторопливо скрылась из виду. А моя шерстяная клетчатая рубаха так и осталась на нем. Что ж, увы и ах! – пришлось мне с ней распрощаться. В конце концов, дорожил я ею лишь из сентиментальных соображений. В нашем несчастном, Богом забытом Шелтоне я прождал целую вечность – несколько часов, – и каждую минуту мне казалось, что вот-вот наступит ночь. На самом-то деле до вечера было еще далеко, просто день стоял пасмурный. Денвер, Денвер, как же мне добраться до Денвера? Оставив всякую надежду, я уже собрался было пойти куда-нибудь, посидеть и выпить кофе, как вдруг неподалеку остановилась совершенно новая машина с молодым парнем за рулем. Я рванулся с места как сумасшедший.
– Куда тебе ехать?
– В Денвер.
– Что ж, миль на сто могу подбросить.
– Это же грандиозно, ты спас мне жизнь!
– Я сам ездил на попутках и теперь всегда беру пассажиров.
– Будь у меня машина, я бы поступал точно так же.
Так мы поболтали, а потом он рассказал мне свою жизнь, которая оказалась не очень-то интересной, и я немного вздремнул, а проснулся вблизи Готенберга, городка, где парень меня и высадил.
4
И тут подъехала самая шикарная попутная машина в моей жизни – грузовик с прицепной платформой, на которой развалились шестеро или семеро парней, а водители, два молодых светловолосых фермера из Миннесоты, подбирали каждую одинокую душу, встреченную ими на этой дороге. О более улыбчивой, неунывающей парочке статных неотесанных парней не приходилось и мечтать. На обоих – хлопчатобумажные рубашки и комбинезоны, больше ничего; у обоих – сильные руки и широкие радушные улыбки для всех и каждого, кто попадется в пути. Я подбежал, спросил: «Есть место?» Они ответили: «А как же, прыгай, места всем хватит».
Не успел я влезть на прицеп, как грузовик с ревом тронулся. Я пошатнулся, один из пассажиров меня подхватил, и я уселся. Кто-то передал мне бутылку с остатками дешевого виски. Обдуваемый первозданным, поэтичным, пропитанным изморозью ветерком Небраски, я сделал добрый глоток.
– Эге-гей, поберегись! – заорал парень в бейсболке, и ребята разогнали грузовик до семидесяти миль в час, обгоняя всех на своем пути.
– Эту
Страница 11
чумовую колымагу мы оседлали еще в Де-Мойне. Ребята гонят без остановок. Вот и приходится то и дело орать, если уж вовсе невмоготу, не то пришлось бы на ходу поливать, а держаться-то не за что, браток, не за что.Я принялся разглядывать компанию. Два молодых фермера из Северной Дакоты в красных бейсболках – стандартном головном уборе фермеров Северной Дакоты. Они ехали зарабатывать на уборке урожая; старики на все лето отпустили их восвояси. Двое городских парней из Коламбуса, Огайо, футболисты школьной команды. Они жевали резинку, перемигивались и распевали песни на ветру. По их словам, за лето они собирались объездить автостопом всю страну.
– Мы едем в Лос-Анджелес! – крикнули они.
– Что вы там будете делать?
– Черт возьми, понятия не имеем! Какая разница?
Был там и высокий, худой малый с хитринкой во взгляде.
– Откуда ты? – спросил я.
На платформе мы лежали рядом. Бортов не было, и сесть без риска вылететь наружу было невозможно. Он медленно повернулся ко мне, раскрыл рот и произнес:
– Мон-та-на.
И наконец – Миссисипи Джин со своим подопечным. Миссисипи Джин был смуглым пареньком, ездившим по стране на товарных поездах, – тридцатилетний бродяга, однако с внешностью юноши, поэтому возраст его определить было невозможно. Поджав ноги по-турецки, он сидел на досках платформы, обозревал окрестные поля, не произнося ни слова на протяжении сотен миль, а в одно прекрасное мгновение повернулся наконец ко мне и спросил:
– А ты куда собрался?
Я сказал – в Денвер.
– У меня там сестра, вот только я уж позабыл, когда и видел-то ее в последний раз.
Речь его была мелодична и нетороплива. Он был исполнен смирения. Его подопечный, высокий шестнадцатилетний блондин, тоже был одет в видавшие виды лохмотья. Другими словами, на обоих была потрепанная одежда, почерневшая от сажи железных дорог, грязи товарных вагонов и ночевок на голой земле. Светловолосого малыша тоже не было слышно. Похоже, ему грозила какая-то опасность, и, судя по тому, как он, облизывая губы, смотрел прямо перед собой, словно терзаемый тревожными снами, он был не в ладах с законом. Изредка с ними, ехидно улыбаясь, вкрадчиво заговаривал Долговязый Монтанец. Они даже не смотрели в его сторону. Долговязый был сама въедливость. Мне становилось не по себе от застывшей на его лице туповатой ухмылки, с которой он смотрел каждому в глаза и от которой выглядел полоумным.
– У тебя есть деньги? – спросил он меня.
– Черта с два! Разве что на пинту виски, чтоб дотянуть до Денвера. А у тебя?
– Я-то знаю, где можно поживиться.
– Где?
– Да где угодно. В темном переулке всегда можно кого-нибудь облапошить, разве не так?
– В общем-то да.
– Когда мне и впрямь нужны деньжата, я такими делами не брезгую. Еду в Монтану повидать отца. В Шайенне придется слезать с этой телеги и двигать дальше другой дорогой. Эти чокнутые едут в Лос-Анджелес.
– Прямиком?
– Без пересадок. Если и ты туда же, считай, тебе повезло.
Я обмозговал ситуацию. Одна мысль о том, чтобы за ночь проскочить Небраску и Вайоминг, утром оказаться в пустыне Юта, а днем наверняка в пустыне Невада, да к тому же так скоро попасть в Лос-Анджелес, едва не заставила меня изменить планы. Но мне надо было в Денвер. В Шайенне мне тоже придется слезать и в Денвер добираться на попутках – еще девяносто миль на юг.
Я обрадовался, когда в Норт-Платте миннесотские фермеры – владельцы грузовика – решили остановиться перекусить. Мне хотелось на них взглянуть. Они вылезли из кабины и заулыбались всем нам.
– Оправка! – объявил один.
– Пора поесть! – сказал другой.
Но из всей компании только у них и были деньги на еду. Мы поплелись за ними в ресторанчик, которым заправляла целая женская команда, и там расселись, взяв кофе и гамбургеры, а водители наши принялись опустошать наполненные до краев тарелки, да с таким аппетитом, словно их уже вновь потчевала на кухне мамаша. Они были братьями. Перевозя фермерское оборудование из Лос-Анджелеса в Миннесоту, они неплохо на этом зарабатывали. Вот и подбирали они каждого встречного, возвращаясь порожняком на Побережье. Совершив уже пяток таких рейсов, они прекрасно себя чувствовали. Они просто наслаждались жизнью и непрестанно улыбались. Я попробовал с ними заговорить – нечто вроде дурацкой попытки подружиться с капитанами нашего корабля, – и единственным ответом мне были две ослепительные улыбки, обнажившие крупные белые, взращенные на кукурузе зубы.
В ресторанчик с ними пошли все, кроме двух бродяг – Джина и его парнишки. Когда мы вернулись, они все так же сидели в кузове, всеми покинутые и несчастные. Смеркалось. Водители устроили перекур. Я с радостью ухватился за возможность сбегать за бутылкой виски, которая не даст замерзнуть на порывистом, холодном ночном ветру. Когда я им об этом сказал, они заулыбались:
– Давай, только поторопись.
– И вам пара глотков достанется, – заверил я.
– Нет-нет, мы не пьем. Давай беги.
В поисках винной лавки вместе со мной по улицам Норт-Платте бродили Долговязый Мо
Страница 12
танец и два школьника. Каждый из них добавил немного денег, и я купил бутылку. У зданий с декоративными фасадами стояли, наблюдая за нами, высокие угрюмые мужчины. Главная улица была застроена домами-коробками. Вдали, там, куда не доходила ни одна из этих унылых улиц, взору открывались необъятные равнины. В воздухе Норт-Платте я чувствовал что-то особенное, а что – не знал. Понял я минут через пять. Вновь забравшись в грузовик, мы помчались дальше. Быстро темнело. Все сделали по глотку, и вдруг я увидел, как начали исчезать зеленеющие фермерские поля долины Платте, а вместо них, так далеко, что не видать ни конца ни края, протянулась плоская песчаная пустошь, поросшая полынью. Я был поражен.– Какого черта, что это? – крикнул я Долговязому.
– Степи начались, приятель. Дай-ка мне еще выпить.
– Ого-го-го! – орали школьники, – Пока, Коламбус! Вот бы сюда Спарки с ребятами, то-то подивились бы! Эге-е-ей!
Сменился за рулем водитель. Отдохнувший братец выжимал предельную скорость. Стала другой и дорога: посередине появились ухабы, а вдоль пологих обочин – канавы фута в четыре глубиной, так что грузовик принялся подпрыгивать и вилять от обочины к обочине – чудесным образом в такие моменты навстречу не попадалось ни одной машины, – а я решил, что всем нам предстоит сделать сальто. Однако водителями братья оказались потрясающими. Ах как расправлялся грузовик с небрасским бугром – бугром, который выпирает над Колорадо! И вскоре до меня дошло, что я наконец-то и в самом деле над Колорадо и, хотя формально еще туда не въехал, уже ищу взглядом Денвер, что всего в нескольких сотнях миль к юго-западу. Я испустил вопль восторга. Мы передавали друг другу бутылку. Засияли яркие звезды, растаяли вдали оставшиеся позади холмы. Я чувствовал себя стрелой на туго натянутой тетиве.
И тут Миссисипи Джин спустился вдруг с заоблачной выси своих смиренных грез на землю, повернулся ко мне, наклонился поближе и заговорил:
– В этих равнинах есть что-то от Техаса.
– Ты из Техаса?
– Нет, сэр, я из Гринвелла, Мазз-сиппи, – Именно так он и сказал.
– А малыш откуда?
– В Миссисипи он попал в беду, вот я и решил помочь ему выкарабкаться. Парень ведь один еще никуда не ездил. Я приглядываю за ним как могу, он ведь еще совсем ребенок.
Хотя Джин был белым, в нем чувствовалось что-то от мудрого усталого старого негра. И еще он чем-то напоминал Элмера Хассела, нью-йоркского наркомана, только Хассела железных дорог, Хассела-путешественника, дважды в год пускающегося в свою одиссею через всю страну – зимой на юг, летом на север, и все лишь потому, что нет ему нигде пристанища, нет такого места, которое бы ему не надоело, и еще потому, что некуда ехать, кроме как куда угодно, лишь бы катить вперед под звездами, и почти всегда – под звездами Запада.
– Я пару раз был в Огдене. Если хочешь, поедем в Огден, там у меня друзья, у которых можно зарыться.
– Из Шайенна я еду в Денвер.
– Черт возьми, да ты уже почти приехал! Не каждый день такие попутные машины попадаются.
Еще одно заманчивое предложение. Что там, в Огдене?
– Что это за Огден? – спросил я.
– Через это местечко едут почти все ребята, они всегда там собираются. Кого там только не встретишь!
В свое время я плавал на одном корабле с высоким костлявым малым из Луизианы по прозвищу Тощий Хазард, а по имени Уильям Холмс Хазард, бродягой по убеждению. Ребенком он увидал, как бродяга выпрашивает у его матери кусок пирога, который она ему и дала, а когда бродяга снова пустился в путь, мальчик спросил: «Кто этот парень, ма?» – «Да это же бродяга!» – «Ма, я хочу стать бродягой». – «Заткнись, Хазардам такое не пристало». Но тот день он так и не забыл и, когда вырос, отыграл какое-то время в футбол в студенческой лиге, а потом и в самом деле сделался бродягой. Мы с Тощим ночи напролет рассказывали друг другу истории, сплевывая в бумажные пакеты пережеванный табак. Что-то в поведении Миссисипи Джина так напоминало мне Тощего Хазарда, что я спросил:
– Тебе случайно не попадался парень по прозвищу Тощий Хазард?
И он ответил:
– Это не тот длинный, что громко смеется?
– Да, похоже, это он. Он из Растона, Луизиана.
– Точно. Иногда его зовут Долговязый Луизианец. Дассэр, Тощего я наверняка знаю.
– Он еще работал на нефтяных месторождениях в Восточном Техасе.
– Верно, в Восточном Техасе. А теперь он погонщик скота.
И это была чистая правда; а все-таки мне не верилось, что Джин и впрямь знает Тощего, которого я разыскивал уже несколько лет.
– А на буксирах в Нью-Йорке он не работал?
– Ну, насчет этого я ничего не знаю.
– Наверное, ты знал его только по Западу.
– Скорей всего. Я никогда не был в Нью-Йорке.
– Да, черт подери, просто поразительно, что ты его знаешь. Страна-то большая. И все же я был уверен, что ты должен его знать.
– Дассэр, Тощего я знаю неплохо. Когда у него есть деньги, он на них не скупится. А нрав у него крутой. Я видел, как в Шайенне, на станции, он одним ударом нокаутировал полицейского.
Похоже, это
Страница 13
ействительно был Тощий: он постоянно молотил кулаками воздух, тренируя этот свой удар. Он был похож на Джека Демпси, разве что на молодого Джека Демпси, который вдобавок пьет.– Черт возьми! – крикнул я ветру и сделал еще один глоток. Теперь я чувствовал себя вполне прилично.
Порывистый ветер, набросившийся на открытый грузовик, начисто лишал каждый глоток его дурного действия, а польза благополучно оседала в желудке.
– Шайенн, я еду! – пропел я. – Жди меня в гости, Денвер!
Долговязый Монтанец повернулся ко мне, показал пальцем на мои башмаки и заметил:
– Думаешь, если зарыть их в землю, что-нибудь вырастет?
При этом он даже не улыбнулся, а остальные услыхали и рассмеялись. Да, это были самые нелепые башмаки в Америке. Надел я их главным образом для того, чтобы не потели ноги на раскаленных дорогах, и, если не считать дождя на Медвежьей горе, они оказались незаменимыми в путешествии. Поэтому я рассмеялся вместе со всеми. Теперь-то башмаки уже порядком поистрепались, во все стороны торчали лоскуты цветной кожи, напоминавшие ломтики свежего ананаса, и пальцы вылезали наружу. Смеясь, мы сделали еще по глотку. Как во сне летели мы сквозь неожиданно возникавшие в темноте маленькие городки на пересечении дорог, минуя в ночи длинные вереницы шатающихся без дела сборщиков урожая и ковбоев. Повернувшись в нашу сторону, они провожали нас взглядом, и мы видели, как в удаляющейся тьме другого конца городка они колотят себя от смеха по ляжкам – компания наша и впрямь выглядела презабавно.
В это время года в округе было полно народу – начался сезон сбора урожая. Ребята из Дакоты заерзали.
– По-моему, на следующей стоянке надо выйти. Похоже, работа в этих местах найдется.
– Главное – когда закончите здесь, двигайте на север, – порекомендовал Долговязый Монтанец, – и догоняйте себе урожай, пока не доберетесь до Канады.
Ребята рассеянно кивнули; они не очень-то нуждались в его советах.
Все это время юный светловолосый беглец сидел не меняя позы. Изредка Джин, воспаривший в своем буддийском трансе над стремительно проносящимися мимо равнинами, опускался на землю и что-то нежно шептал мальчику на ухо. Тот кивал. Джин заботился о нем и пытался умерить его капризы и страхи. Мне хотелось знать, куда они едут и какого черта собираются делать. У них не было сигарет. Я угощал их, пока не кончилась пачка, – так они пришлись мне по душе. Они благодарно мне улыбались, но сами не попросили ни разу – предлагал я. У Долговязого Монтанца тоже были сигареты, но он так и не протянул им свою пачку. Мы пронеслись мимо еще одного придорожного городка, миновали еще одну группу рослых, худощавых, одетых в джинсы парней, теснившихся в тусклом свете фонарей, словно мотыльки в пустыне, и вновь оказались в кромешной тьме, а звезды над головой были чистыми и яркими, потому что воздух становился все более разреженным по мере того, как мы все выше поднимались на западное плато, а поднимались мы, как я слышал, с каждой милей на фут, и ни одно дерево нигде не заслоняло низких звезд. А однажды у самой дороги я мельком увидел в зарослях шалфея унылую беломордую корову. Мы ехали словно на поезде – так же равномерно и так же прямо.
Вскоре мы подъехали к очередному городку, сбавили скорость, и Долговязый Монтанец сказал: «Ага, стоянка», – однако миннесотцы не остановились, они миновали и этот городок.
– Черт подери, мне надо выйти, – сказал Долговязый.
– Давай на ходу, – посоветовал ему кто-то.
– Что ж, придется, – ответил он и под нашими взглядами начал медленно, осторожно продвигаться на боку к заднему краю платформы, изо всех сил стараясь удержаться. Наконец он свесил ноги наружу.
Кто-то постучал в окошко кабины, чтобы привлечь ко всему этому внимание братьев. Те обернулись, и их сияющие улыбки погасли. И едва Долговязый приготовился справить нужду, что было и без того небезопасно, они на скорости семьдесят миль в час пустили грузовик зигзагами. На мгновение Долговязый повалился на спину, и мы увидели в воздухе китовый фонтан. С превеликим трудом ему снова удалось сесть. Тогда братья резко вывернули грузовик. Бац! – он свалился на бок, поливая себя с ног до головы. Сквозь страшный грохот до нас доносилась его ругань – такая слабая, что, казалось, кто-то хнычет далеко за холмами. «Проклятье… проклятье…» – Он так и не понял, что мы все подстроили; он лишь боролся за существование, несгибаемый, как Иов. Закончив наконец, он вымок до нитки, и теперь ему предстоял обратный путь по трясущейся платформе, и он пустился в этот путь с самым удрученным видом, а все, кроме печального светловолосого мальчика, заливались смехом, хохотали и миннесотцы в кабине. В качестве компенсации за страдания я протянул ему бутылку.
– Что за черт, – сказал он, – они что, нарочно?
– Наверняка.
– Вот дьявольщина, как я сразу не понял! Ведь еще в Небраске я делал то же самое, и тогда все было куда как проще!
Неожиданно мы оказались в городке Огаллала, и тут миннесотцы с неподдельным торжеством объявили из кабины: «Стоянка! Можн
Страница 14
облегчиться!» Долговязый, скорбя по упущенной возможности, понуро стоял возле грузовика. Ребята из Дакоты распрощались со всеми, рассчитывая именно отсюда начать сбор урожая. Мы смотрели, как они удаляются в ночь, в сторону лачуг на окраине городка, где, как сказал ночной сторож в джинсах, находится бюро по найму. Мне надо было купить сигареты. Желая размять ноги, со мной пошли Джин с Блондином. Я попал в самое неподходящее заведение – типичный для равнин унылый буфет с газировкой для местных подростков. Некоторые из них танцевали под музыкальный автомат. Когда мы вошли, наступило временное затишье. Джин с Блондином стояли ни на кого не глядя: кроме сигарет, им ничего не было нужно. Среди подростков были и хорошенькие девочки. И одна из них начала строить Блондину глазки, а тот так ничего и не заметил, да если бы и заметил, его бы это не тронуло – так он был потерян и грустен.Я купил каждому по пачке. Они меня поблагодарили. Грузовик был готов ехать. Приближалась полночь, холодало. Джин, который ездил по стране столько раз, что не сосчитать на пальцах рук и ног, сказал, что сейчас, чтобы не замерзнуть, нам лучше всего потеснее прижаться друг к другу и накрыться брезентом. Таким вот способом, да еще с помощью того, что оставалось в бутылке, мы и согревались, когда ветер стал ледяным и засвистел у нас в ушах. Чем выше мы поднимались на Высокие Равнины, тем ярче казались звезды. Мы были уже в Вайоминге. Лежа на спине, я смотрел на величественный небосвод, упивался быстрой ездой и торжествовал оттого, что нахожусь так далеко от унылой Медвежьей горы. И еще я трепетал от возбуждения при мысли о том, что впереди Денвер – что бы там меня ни ждало. А Миссисипи Джин затянул песню. Он пел с южным акцентом, тихо и протяжно, и песня его была простой: «Моей милой лет шестнадцать, красивей ее не сыщешь». Повторяя эти слова, он вставлял и другие, о том, как он далеко, и как хотел бы к ней вернуться, и как все-таки ее потерял.
– Джин, это замечательная песня, – сказал я.
– Моя любимая, – ответил он с улыбкой.
– Надеюсь, ты доберешься туда, куда едешь, а там будешь счастлив.
– Как-нибудь не пропаду, мне всегда везет.
Долговязый Монтанец спал. Проснувшись, он обратился ко мне:
– Эй, Чернявый, как насчет того, чтобы вечерком вместе прошвырнуться по Шайенну, а уж потом отправишься в свой Денвер?
– Заметано! – Я был уже достаточно пьян, чтобы согласиться на что угодно.
Когда грузовик достиг окраины Шайенна, мы увидели наверху красные огоньки местной радиостанции, а потом неожиданно очутились среди снующей на тротуарах многочисленной толпы.
– Вот дьявольщина, это же Неделя Дикого Запада! – сказал Долговязый.
Толпы коммерсантов – толстых коммерсантов в сапогах и десятигаллоновых шляпах, со своими дюжими женами в нарядах девиц-ковбоев, с радостным гиком сновали по деревянным тротуарам старого Шайенна. Вдали протянулись огни проспектов нового делового района, но празднество сосредоточилось в Старом городе. Палили холостыми патронами. В переполненные салуны невозможно было войти. Я был поражен и одновременно чувствовал нелепость происходящего: не успел я попасть на Запад, как увидел, до какого абсурда он дошел в попытке сохранить свои благородные традиции. Нам пришлось спрыгнуть с грузовика и распрощаться. Миннесотцам ни к чему было там околачиваться. Грустно было смотреть, как они отъезжают, и я понял, что больше никого из них не увижу, но так уж вышло.
– Ночью вы отморозите задницы, – предупредил я их, – а завтра днем зажарите их в пустыне.
– Ну, если уж мы выкарабкаемся этой холодной ночью, остальное не страшно, – сказал Джин. И грузовик тронулся, осторожно пробираясь сквозь толпу, и никто не обращал внимания на странных ребят, завернувшихся в брезент и глазевших на город, словно укутанные одеялом грудные детишки. Я смотрел им вслед, пока они не исчезли в ночи.
5
Со мной остался Долговязый Монтанец, и мы с ним пустились в поход по барам. У меня было долларов семь, пять из которых я той ночью безрассудно промотал. Поначалу мы вместе со всеми этими псевдоковбоями – туристами, нефтепромышленниками и скотоводами – крутились у стоек, в дверях баров и на тротуаре. Потом я некоторое время тряс на улице Долговязого, которого от выпитого виски и пива начало слегка пошатывать – он был тот еще пьяница. Глаза его остекленели, и через минуту он уже что-то доказывал совершенно незнакомому человеку. Я зашел в мексиканскую забегаловку; прислуживавшая там мексиканка оказалась настоящей красавицей. Поев, я написал ей на обороте счета любовную записку. В закусочной никого не было; все находились там, где можно было выпить. Я попросил официантку перевернуть счет. Она прочла и рассмеялась. Там было небольшое стихотворение о том, как бы я хотел пойти вместе с ней полюбоваться ночным весельем.
– С удовольствием, чикито, но я уже условилась со своим парнем.
– А нельзя ли от него избавиться?
– Нет-нет, нельзя, – сказала она грустно, и я влюбился в то, как она это сказала.
– Я как-нибудь е
Страница 15
е зайду, – сказал я. А она ответила:– В любое время, малыш.
Но я все не уходил, я взял еще кофе и смотрел на нее. Вошел ее парень и с мрачным видом пожелал узнать, когда она освободится. Она принялась суетиться, чтобы побыстрей закрыть заведение. Мне пришлось выметаться. На прощанье я улыбнулся ей. Снаружи все бурлило, как прежде, разве что пузатые пердуны стали пьянее, а восторженное гиканье – громче. Зрелище было довольно странное. В толпе, среди раскрасневшихся пьяных рож, с важным видом бродили индейские вожди с громадными украшениями в волосах. Я увидел ковыляющего куда-то Долговязого и подошел к нему.
– Я только что написал открытку папаше в Монтану. Как по-твоему, сможешь ты отыскать почтовый ящик и бросить ее? – произнес он.
Необычная была просьба. Он отдал мне открытку и, пошатываясь, одолел двустворчатые двери салуна. По дороге к ящику я пробежал открытку глазами. «Дорогой папаша, я буду в среду. У меня все в порядке, и надеюсь, у тебя тоже. Ричард». Это изменило мое представление о Долговязом; к отцу он относился с нежной учтивостью. Я вошел в бар и подсел к Долговязому. Мы сняли двух девиц – юную хорошенькую блондинку и толстую брюнетку. Обе были неразговорчивы и угрюмы, и все-таки нам хотелось ими заняться. Мы привели их в покосившийся ночной ресторанчик, который уже закрывался, и там я потратил все, кроме последних двух долларов, на шотландское виски для них и пиво для нас. Я пьянел, ни о чем не задумываясь; все было прекрасно. Все мое существо, вся воля были устремлены на маленькую блондинку. Чего только я не делал, чтобы ее расшевелить! Я сжимал ее в объятиях и пытался что-то рассказать. Ночной ресторанчик закрылся, и все мы вывалились на кривые пыльные улочки. Я взглянул на небо: там все еще сияли чудесные чистые звезды. Девицам надо было на автобусную станцию, и мы пошли с ними, но оказалось, что там их ждет какой-то моряк – двоюродный брат толстушки, а с моряком еще и приятели. Я спросил блондинку: «В чем дело?» Она ответила, что хочет домой, в Колорадо, что живет у самой границы, к югу от Шайенна.
– Я поеду с тобой на автобусе, – сказал я.
– Автобус-то останавливается на шоссе, и мне приходится совсем одной шагать по этим чертовым прериям. Я и так целыми днями любуюсь этими прериями треклятыми, и мне вовсе не улыбается еще и ночью по ним ходить.
– Эй, послушай, это же здорово, мы с тобой прогуляемся среди цветов прерий!
– Нет там никаких цветов, – сказала она. – Я хочу уехать в Нью-Йорк. Мне это все осточертело. Кроме как в Шайенн, некуда податься, да и в Шайенне ничего нет.
– И в Нью-Йорке тоже.
– Черта с два! В Нью-Йорке-то! – сказала она с усмешкой.
Автобусная станция была набита битком. Кого там только не было! Одни ждали автобусов, другие просто болтались без дела. Были в этой толпе и индейцы, которые оценивали происходящее своим неподвижным взглядом. Девице наскучила моя болтовня, и она отошла к моряку с его компанией. Долговязый клевал носом на скамейке. Я сел. Полы всех автобусных станций страны одинаковы – они усыпаны окурками, заплеваны, они навевают ту особую грусть, какую чувствуешь только на автобусных станциях. На минуту мне почудилось, что я в Ньюарке, разве что снаружи была та величественная беспредельность, которую я так полюбил. Я сожалел о том, что нарушил чистоту путешествия, о том, что так безрассудно промотал деньги, оставив лишь жалкие гроши, да к тому же попусту терял время, волочась за этой угрюмой девицей. Меня одолевала досада. Однако я давно не ночевал в помещении и слишком устал, чтобы ругаться и волноваться по пустякам, и поэтому стал пристраиваться спать. Свернувшись калачиком на сиденье, я подложил под голову свой парусиновый мешок и под убаюкивающее бормотание и галдеж автовокзала, среди сотен снующих мимо людей, проспал до восьми утра.
Проснулся я с сильной головной болью. Долговязый исчез – наверно, уехал в Монтану. Я вышел наружу. И там, в лазурном воздухе, я в первый раз увидел вдалеке громадные заснеженные вершины Скалистых гор. Я глубоко вздохнул. Мне немедленно надо было в Денвер. Первым делом я позавтракал, весьма скромно – тост, кофе и яйцо, а потом пустился наутек из города, стремясь скорее попасть на шоссе. Праздник Дикого Запада все продолжался: шло родео, с минуты на минуту должны были возобновиться прыжки и гиканье. Но для меня все это было уже позади. Мне хотелось повидать свою денверскую шайку. Перейдя по мостику железную дорогу, я добрался до скопления лачуг у развилки двух шоссе – оба вели в Денвер. Выбрав ближайшее к горам, чтобы как следует их разглядеть, я принялся голосовать в этом направлении. Меня сразу же подобрал молодой парень из Коннектикута, который ездил на своей колымаге по стране и рисовал с натуры. Он был сыном издателя с Востока. Болтал он без умолку. От выпитого и от высоты меня тошнило. Один раз мне едва не пришлось высунуться в окошко. Но еще до того, как он высадил меня в Лонгмонте, Колорадо, я вновь почувствовал себя нормально и даже принялся рассказывать ему о своих собственных п
Страница 16
тешествиях. Он пожелал мне удачи.В Лонгмонте было просто чудесно. Под громадным старым деревом я углядел ухоженный зеленый газончик, принадлежавший бензоколонке, и попросил у служителя разрешения там вздремнуть. Возражений не последовало, и я расстелил шерстяную рубашку, улегся на нее ничком, выставив наружу локоть и, на мгновение увидав одним глазом согретые жаркими лучами солнца заснеженные Скалистые горы, провалился в сон. Чудеснейшим образом я проспал два часа, разве что изредка меня беспокоили колорадские муравьи. Вот я и в Колорадо! Я ликовал. Черт подери! Черт подери! Черт подери! Я почти у цели! И после освежающего сна, заполненного беспорядочными образами из прошедшей моей жизни на Востоке, я встал, умылся в туалете бензоколонки и в прекрасном расположении духа зашагал прочь. В придорожной закусочной я немного охладил свой разгоряченный, измученный желудок стаканом густого жирного молочного коктейля.
Между прочим, сливки мне сбивала очаровательная колорадская девица. К тому же она непрерывно улыбалась. Я был благодарен ей, это было неплохой компенсацией за прошлую ночь. «Ого! – сказал я себе. – То ли еще будет в Денвере!» Не успел я выйти на раскаленную дорогу, как тут же умчался на новеньком автомобиле, за рулем которого сидел денверский коммерсант лет тридцати пяти. Он ехал со скоростью семьдесят. Все во мне трепетало от нетерпения, я считал минуты и вычитал пройденные мили. Скоро впереди, там, где колышутся пшеничные поля, золотящиеся под далекими снегами Истеза, я увижу наконец старый Денвер. Я представил себе, как уже вечером буду сидеть в денверском баре вместе со всей шайкой, и в их глазах я буду выглядеть чудаковатым оборванцем, и они примут меня за пророка, пересекшего пешком всю страну, чтобы принести им тайное Слово, а единственное Слово, которым я обладал, было «ура!». Мы с водителем вели долгий задушевный разговор о жизненных планах друг друга, и, прежде чем до меня это дошло, мы уже ехали мимо оптовых фруктовых рынков на окраине Денвера. Появились дымовые трубы, копоть, сортировочные станции, дома красного кирпича, а в отдалении – здания деловой части города из серого камня. Вот я и в Денвере. Мой спутник высадил меня на Лаример-стрит. И с радостной, а вместе с тем и ехиднейшей улыбочкой на лице я поковылял мимо старых бродяг и потрепанных ковбоев Лаример-стрит.
6
Дина в те времена я знал еще не так хорошо, как теперь, и, решив первым делом заглянуть к Чеду Кингу, занялся его розысками. Я позвонил ему домой, трубку сняла его мать: «Сал, ты? Как ты оказался в Денвере?» Чед – стройный блондин с лицом экзотического шамана, вполне соответствующим его увлечению антропологией и доисторическими индейцами. Под вьющимися золотистыми волосами торчит его слегка крючковатый, почти кремового цвета нос. Он привлекает грациозностью западного сорвиголовы, из тех, что отплясывают в придорожных трактирах и изредка поигрывают в футбол. Говорит он дрожащим голосом: «Что мне всегда нравилось в индейцах Равнин, Сал, так это то, как они конфузятся, похвастав числом добытых скальпов. В „Жизни на Дальнем Западе“ Ракстона один индеец сгорает со стыда за то, что снял такую уйму скальпов, сломя голову удирает в глубь равнин и только там, в уединении, упивается своими подвигами. Просто умора, черт побери!»
Мать разыскала Чеда в местном музее, где в сонный денверский полдень он углублял свои познания в плетении индейских корзин. Туда я ему и позвонил. Явившись, он посадил меня в свой старенький двухместный «фордик», на котором обычно ездил в горы раскапывать индейскую утварь. В здание автовокзала он вошел в джинсах, сияя широкой улыбкой. А я, усевшись на свой брошенный на пол мешок рядом с тем самым моряком, которого видел еще на автобусной станции в Шайенне, пытался расспросить его про блондинку и так ему надоел, что он ни разу не потрудился ответить. Мы с Чедом забрались в «фордик», и оказалось, что первым делом ему надо взять в Законодательном собрании штата какие-то карты. Потом он должен был заехать к старому школьному учителю и все такое прочее, мне же хотелось только одного – пива. Вдобавок в голове у меня свербила мыслишка о Дине: где-то он теперь и что поделывает? Чед по неизвестной причине решил порвать с Дином и даже не знал, где тот живет.
– А Карло Маркс в городе?
– Да.
Но и с ним Чед больше не общался. Тогда-то Чед Кинг и начал отходить от нашей старой компании. Днем мне еще предстояло вздремнуть у него дома. А вообще-то Тим Грэй приготовил для меня на Колфакс-авеню квартиру, где уже ждал меня поселившийся там Роланд Мейджор. В воздухе пахло неким заговором, и заговор этот разбил компанию на две группировки: Чед Кинг, Тим Грэй и Роланд Мейджор, а заодно и Роулинсы приняли решение игнорировать Дина Мориарти и Карло Маркса. Я явился в Денвер в самый разгар этой увлекательной войны.
Война эта имела социальную подоплеку. Дин был сыном пропойцы, одного из самых пропащих бродяг Лаример-стрит, да и сам он, в общем-то, рос или на Лаример-стрит, или где-то неподалеку. Уже в
Страница 17
шестилетнем возрасте он частенько выступал в суде, призывая освободить отца. Близ ларимерских трущоб он просил подаяние, а деньги украдкой носил отцу, который в компании старого дружка дожидался его среди битых бутылок. Когда Дин подрос, он начал ошиваться на Гленарм-стрит, там, где заключают пари на гонках. Он установил рекорд Денвера по угону автомобилей и попал в исправительное заведение. С одиннадцати до семнадцати лет из исправительных школ он почти не вылезал. Основное занятие его состояло в том, что он угонял машины, днем охотился за выходящими из школы девчонками, вез их в горы и, вволю ими насладившись, возвращался назад, чтобы переночевать в первой попавшейся гостиничной ванне города. Его отец, некогда уважаемый, трудолюбивый жестянщик, сделался алкоголиком, он запил вино, что еще хуже, чем виски, и ему осталось лишь кататься на товарняках, зимой в Техас, а летом – обратно в Денвер. У Дина были братья со стороны покойной матери – она умерла, когда он был совсем маленьким, однако они его недолюбливали. Дружки у него были только на автодроме.Дин, обладавший кипучей энергией новоявленного американского святого, и Карло стали в ту пору в Денвере, вместе с тотализаторной шайкой, настоящими чудовищами подполья, и, словно желая обзавестись подходящим символом такой жизни, Карло снял на Грант-стрит подвальную квартиру, где не одну ночь просидели мы все вместе до рассвета – Карло, Дин, я, Том Снарк, Эд Данкел и Рой Джонсон. Эти последние присоединились к нам позднее.
В первый свой денверский день я улегся спать в комнате Чеда Кинга, в это время его мать трудилась внизу по хозяйству, а сам Чед работал в библиотеке. День был жаркий, типичный для высоких равнин июльский день. Если бы не изобретение отца Чеда Кинга, я бы ни за что не уснул. Отцу Чеда Кинга, добрейшей души человеку, было за семьдесят. Старый и немощный, длинный и худой, он неторопливо, с увлечением рассказывал разные истории, и истории неплохие – о своем детстве, проведенном на равнинах Северной Дакоты в восьмидесятые годы, о том, как он забавлялся, разъезжая верхом на неоседланных пони и гоняясь с дубинкой за койотами. Позже он стал сельским учителем где-то на северо-западе штата Оклахома, а в конце концов занялся в Денвере сбытом разнообразных механизмов и устройств. Он все еще владел старым кабинетом, расположенным на той же улице, над гаражом, и там все еще стояло шведское бюро, забитое бесчисленными пыльными документами, свидетельствами минувших треволнений и прибыльных дел. Так вот, он изобрел особый кондиционер: вделав в оконную раму обыкновенный вентилятор, он каким-то образом пропускал по змеевику перед вращающимися со свистом лопастями холодную воду. Результат превзошел все ожидания – в пределах четырех футов от вентилятора, – однако в знойный день вода, по-видимому, превращалась в пар, и на первом этаже было так же жарко, как обычно. Я же улегся под самим вентилятором, на кровать Чеда, и под пристальным взором массивного бюста Гёте с комфортом отошел ко сну, чтобы уже через двадцать минут проснуться, дрожа от холода. Я укрылся одеялом, но согреться не смог. Наконец ударил настоящий мороз, и мне стало не до сна. Я спустился вниз. Старик спросил, как действует его изобретение. Я сообщил ему, что действует оно чертовски здорово, и при этом почти не покривил душой. Старик мне понравился. Он был буквально напичкан воспоминаниями.
– Однажды я придумал пятновыводитель, и потом его стали делать крупные фирмы на Востоке. Вот уже несколько лет я пытаюсь получить свои проценты. Будь у меня деньги на приличного адвоката…
Однако нанимать приличного адвоката было поздно, и старик в подавленном настроении сидел дома. Вечером мы полакомились превосходным обедом, приготовленным матерью Чеда, – бифштексом из оленины. А оленя подстрелил в горах Чедов дядя. Но куда подевался Дин?
7
Следующие десять дней были, как сказал У. К. Филдз[4 - У. К. Филдз (Уильям Клод Дюкенфилд, 1880–1946) – знаменитый американский актер и эстрадный комик.], «чреваты возвышенной опасностью» – и безумны. Я переехал к Роланду Мейджору, в роскошные апартаменты, принадлежавшие родственникам Тима Грэя. У каждого из нас была там кухонька с едой в леднике, а также огромная гостиная, где сидел в своем шелковом халате, сочиняя новый рассказ в хемин-гуэевском духе, сам Мейджор – краснолицый пухлый коротышка, желчный ненавистник всего на свете, который, однако, стоило реальной жизни явить ему в ночи свою отрадную сторону, мог пустить в ход самую сердечную, самую обаятельную в мире улыбку. Вот так он и сидел за своим письменным столом, а я в одних брюках военного образца носился по толстому мягкому ковру. Мейджор только что закончил рассказ про парня, который впервые приезжает в Денвер. Зовут его Фил. Его спутник – таинственный молчаливый тип по имени Сэм. Фил идет побродить по Денверу, и всюду его выводят из себя эстетствующие дилетанты. Он возвращается в гостиницу и мрачно говорит: «Сэм, их и здесь полно». А Сэм глядит себе печально в окно и отвечает: «Да, я зн
Страница 18
ю». Вся суть в том, что Сэму и не надо было никуда ходить, чтобы это понять. Эстетствующие дилетанты заполонили Америку, они пьют ее кровь. Мы с Мейджором были большими друзьями; он считал, что я-то к эстетствующим дилетантам ровно никакого отношения не имею. Мейджор любил хорошие вина – так же как и Хемингуэй. То и дело он предавался воспоминаниям о своей недавней поездке во Францию.– Ах, Сал, посидел бы ты со мной в горах страны басков за бутылочкой охлажденного «Поньон-дю-неф», вот тогда бы ты понял, что на свете, кроме твоих товарных вагонов, есть и еще кое-что.
– Знаю. Просто дело в том, что я люблю товарные вагоны, люблю читать написанные на них названия: «Миссури Пасифик», «Грейт Норден», «Рок-Айленд Лайн». Господи, Мейджор, рассказать бы тебе все, что со мной было, пока я сюда добирался!
Роулинсы жили в нескольких кварталах от нас. Это была очаровательная семья – довольно молодая мать, совладелица ветхой гостиницы в заброшенной части города, с пятью сыновьями и двумя дочерьми. Сладу не было лишь с повесой Рэем Роулинсом, другом детства Тима Грэя. Рэй с шумом ворвался к нам, чтобы вытащить меня из дома, и мы сразу пришлись друг другу по душе. Мы отправились в питейные заведения Колфакса. Одной из сестер Рэя была красивая блондинка по имени Бейб – куколка с Западного побережья, увлекающаяся теннисом и серфингом. Она была девушкой Тима Грэя. А Мейджор, который находился в Денвере всего лишь проездом и все-таки жил с истинным размахом, в апартаментах, всюду появлялся в обществе сестры Тима Грэя, Бетти. Только у меня не было девушки. Я расспрашивал всех и каждого, не знает ли кто, где Дин. И все только улыбались, отрицательно качая головой.
Потом это наконец произошло. Зазвонил телефон, и это был Карло Маркс. Он дал мне адрес своего подвала. Я спросил:
– Что ты делаешь в Денвере? То есть чем занимаешься? Что происходит?
– Ах, потерпи, я тебе все расскажу.
Я помчался к нему. Вечерами он работал в универмаге Мэя. Оказывается, чокнутый Рэй Роулинс позвонил туда из бара и заставил уборщиков срочно разыскать Карло и сообщить ему, что кто-то умер. Карло, недолго думая, решил, что умер именно я. А в трубке услышал голос Роулинса: «Сал в Денвере» – и получил мой адрес и телефон.
– А где Дин?
– Дин в Денвере. Сейчас расскажу.
И он рассказал мне о том, что Дин крутит любовь одновременно с двумя девицами – с Мерилу, своей первой женой, которая ждет его в гостиничном номере, и Камиллой, новой девушкой, которая тоже ждет его в гостиничном номере.
– В перерывах между ними он мчится ко мне заниматься нашим с ним нескончаемым делом.
– А что за дело?
– Мы с Дином вступили в грандиозный период. Мы пытаемся общаться друг с другом с абсолютной откровенностью, выкладывать все, что у каждого из нас в душе. Приходилось и бензедрин принимать. Сидим по-турецки на кровати, друг против друга. Я наконец-то внушил Дину, что он может все, что захочет, – стать мэром Денвера, мужем миллионерши, а то и величайшим поэтом со времен Рембо. Вот только он то и дело убегает на гонки малолитражек. И я иду с ним. От возбуждения он прыгает и орет. Знаешь, Сал, Дин просто помешан на подобных вещах. – Маркс хмыкнул и погрузился в задумчивость.
– Какое расписание? – спросил я. В жизни Дина всегда было расписание.
– Расписание такое: полчаса назад я вернулся с работы. Дин в это время потягивает в гостинице Мерилу, и у меня есть возможность переодеться. Ровно в час он несется от Мерилу к Камилле – разумеется, ни одна из них не догадывается о том, что происходит, – и ставит ей пистон, а я как раз успеваю подойти туда ровно в час тридцать. Потом мы вместе уходим – сперва ему приходится отпрашиваться у Камиллы, которая уже начинает меня ненавидеть, – приходим сюда и говорим до шести утра. Мы могли бы сидеть и подольше, но сейчас возникают жуткие сложности, ему просто не хватает времени. Потом, в шесть, он возвращается к Мерилу… А завтра ему предстоит весь день бегать за бумагами для их развода. Мерилу целиком за, но пока требует, чтобы он с ней спал. Она говорит, что любит его. Впрочем, и Камилла утверждает то же самое.
Потом он рассказал мне, как Дин познакомился с Камиллой. Рой Джонсон, завсегдатай автодрома, увидел ее в баре и привел в гостиницу. Тщеславие одержало верх над здравым смыслом, и он решил показать ее всей честной компании. Все сидели и болтали с Камиллой. Лишь Дин молча смотрел в окно. Потом, когда все разошлись, Дин просто взглянул на Камиллу, постучал по запястью и поднял четыре пальца (это означало, что в четыре он вернется), а потом вышел. В три дверь закрылась за Роем Джонсоном. В четыре она открылась, чтобы впустить Дина. Мне захотелось немедленно повидать этого сумасброда. К тому же он и меня обещал обеспечить: в Денвере он знал всех девиц.
Денверской ночью мы с Карло шли по узеньким кривым улочкам. Воздух был таким теплым, звезды такими ясными и так много сулил каждый булыжный переулок, что я решил: не иначе, мне все это снится. Мы добрались до меблированных комнат, где Дин верш
Страница 19
л свои дела с Камиллой. Это было ветхое здание красного кирпича, окруженное деревянными гаражами и старыми деревьями, верхушки которых виднелись над оградами. Мы поднялись по крытым ковром ступенькам. Карло постучал, потом он метнулся назад и спрятался за моей спиной. Он не хотел, чтобы Камилла его увидела. Я стоял перед дверью. Ее открыл Дин, совершенно голый. Я увидел на кровати брюнетку, прелестную кремовую ляжку в черных кружевах, кроткий вопрошающий взгляд.– Да ведь это Са-а-ал! – сказал Дин. – Как же… ах… хм… да, конечно, ты приехал… ах ты, старый сукин сын, наконец-то и ты снялся с места. Да, слушай… нам надо… да-да, сейчас… нам надо, очень надо! Слушай, Камилла… – Он бросился на нее и заключил в объятия. – Приехал Сал, старый приятель из Нью-Йор-р-ка, это его первая ночь в Денвере, и мне во что бы то ни стало нужно вывести его в люди и обеспечить девушкой.
– А когда ты вернешься?
– Сейчас, – взгляд на часы, – ровно час четырнадцать. Я вернусь ровно в три четырнадцать, и мы с тобой часок пофантазируем, это будут сладкие грезы, любимая, а потом, как ты знаешь, как я тебе уже говорил и как мы с тобой условились, я пойду насчет бумаг к одноногому адвокату – именно ночью, хоть это и может показаться странным, но я ведь все тебе под-роб-но объяснил. (Это было прикрытие для рандеву с Карло, который все еще прятался.) Поэтому сейчас, в эту самую минуту, я должен одеться, натянуть штаны, вернуться к жизни, то есть к внешней жизни – улица там и прочее, мы же договорились, уже почти час пятнадцать, а время бежит, бежит…
– Ну ладно, Дин, только прошу тебя, обязательно возвращайся в три.
– Я же сказал, дорогая, и не забудь – не в три, а в три четырнадцать. Разве не чисты мы друг перед другом в прекраснейших, сокровенных тайниках души, любимая?
И он подошел к ней, чтобы ее расцеловать. На стене висел рисунок, сделанный Камиллой и изображавший обнаженного Дина – чудовищных размеров болт и всякое такое. Я остолбенел. Сплошное безумие.
Мы умчались в ночь. Карло догнал нас в переулке. И мы двинулись по самой узкой, самой чудной и самой кривой из всех виденных мною городских улочек, в сердце денверского мексиканского квартала. Мы громко переговаривались в тиши спящего города.
– Сал, – сказал Дин, – у меня есть девушка, которая ждет тебя в эту самую минуту – если только она не на работе, – (Взгляд на часы.) – Официантка, Рита Беттенкорт, бесподобная цыпочка, правда, немного помешана на кое-каких сексуальных несуразностях, которые я пытался устранить, а у тебя, по-моему, это как раз должно получиться, шельмец ты этакий. Пойдем прямо туда… Надо пивка захватить, хотя нет, у них должно быть свое, и… проклятье! – воскликнул он, шмякнув кулаком в ладонь. – Я просто обязан сегодня вплотную заняться ее сестрицей Мэри!
– Что? – возмутился Карло, – Я думал, мы будем разговаривать.
– Да-да, после.
– Ох уж эта денверская хандра! – завопил Карло в небеса.
– Ну разве он не самый славный, не самый обаятельный малый на свете?! – произнес Дин, ткнув меня в бок, – Посмотри на него. Посмотри на него!
А Карло пустился в свой обезьяний пляс на улицах жизни, в который так часто на моих глазах пускался в Нью-Йорке. Я только и мог, что сказать:
– Ну и какого черта мы торчим в Денвере?
– Завтра, Сал. Я знаю, где найти работу, – сказал Дин, переходя на деловой тон, – Так что, как только избавлюсь на часок от Мерилу, я забегу к тебе, прямиком в твои апартаменты, поприветствую Мейджора и довезу тебя на трамвае (у меня нет машины, черт возьми!) до рынка Камарго, где ты сразу сможешь приступить к работе, а в пятницу уже получишь жалованье. Мы тут все сидим без гроша. В последние недели у меня просто времени не остается, чтоб подзаработать. А в пятницу вечером мы втроем – Карло, Дин и Сал, старая троица, – вне всяких сомнений, должны сходить на гонки малолитражек, а подбросит нас туда один знакомый малый из центра… – Все дальше и дальше в ночь.
Мы подошли к дому, где жили сестры-официантки. Та, что предназначалась мне, еще не пришла с работы. Дома была сестрица, которую возжелал Дин. Мы уселись на ее кушетку. Как раз в это время я обещал позвонить Рэю Роулинсу. Я позвонил. Он тут же примчался. Не успев войти, он снял рубашку и майку и принялся тискать в объятиях абсолютно незнакомую ему Мэри Беттенкорт. Под ногами катались бутылки. Стукнуло три часа. Дин умчался к Камилле на час фантазий. Вернулся он вовремя. Появилась вторая сестрица. Расшумелись мы уже дальше некуда, и теперь нам потребовался автомобиль. Рэй Роулинс позвонил приятелю с машиной. Тот приехал. Все набились внутрь. На заднем сиденье Карло пытался вести с Дином запланированную беседу, но попытка эта потонула во всеобщей неразберихе.
– Едем в мои апартаменты! – орал я.
Так мы и сделали. Как только машина остановилась, я выпрыгнул на траву и сделал стойку на голове. Выпали все мои ключи; я их так и не нашел. С криками мы ворвались в дом. Путь нам преградил Роланд Мейджор в своем шелковом халате.
– Ничего подобного в квартире Тима
Страница 20
рэя я не допущу!– Что? – заорали мы хором.
Произошло замешательство, которым воспользовался Роулинс, чтобы поваляться на травке с одной из официанток. Мейджор нас так и не впустил. Мы клялись позвонить Тиму Грэю и легализовать вечеринку, а заодно пригласить его самого. Но вместо этого мы понеслись назад, в сторону злачных мест денверского центра. Неожиданно я очутился на улице совершенно один, к тому же без денег.
Пять миль я тащился пешком по Колфакс-авеню, пока не добрался до своей уютной постели. Мейджору пришлось меня впустить. Мне хотелось знать, занялись ли Дин с Карло своей задушевной беседой. Выяснение этого вопроса я отложил на потом. Ночи в Денвере прохладные, и я спал как убитый.
8
Потом все принялись готовить грандиозную экспедицию в горы. Началось все утром, ознаменовавшимся телефонным звонком, который лишь осложнил ситуацию, – это был мой давний спутник Эдди, решившийся позвонить наугад. Я называл ему некоторые имена, и он их запомнил. У меня появился шанс заполучить обратно рубашку. Эдди остановился у своей девушки, неподалеку от Колфакс. Он спросил, не знаю ли я, где можно найти работу, и я велел ему прийти, рассчитывая, что ему поможет Дин. Дин явился в спешке, в тот момент, когда мы с Мейджором наспех поглощали завтрак. Он даже не присел.
– У меня еще тысяча дел, даже в Камарго везти тебя некогда, однако поехали, старина.
– Надо дождаться моего попутчика Эдди.
Мейджору наши хлопоты представлялись весьма забавными. Сам он приехал в Денвер писать. К Дину он относился с крайним почтением. Дин же этого не замечал. Обращался Мейджор к Дину примерно так:
– Мориарти, я слышал, вы спите одновременно с тремя девицами, это так?
А Дин, шаркая ногами по ковру, отвечал:
– Да-да, так оно и есть, – и смотрел на часы, а Мейджор шмыгал носом.
Выбегая с Дином из дома, я чувствовал себя немного не в своей тарелке – Мейджор утверждал, что Дин слабоумный, к тому же шут гороховый. Конечно, это было не так, что я и хотел каким-то образом всем доказать.
Мы встретились с Эдди, на которого Дин едва взглянул, сели в трамвай и через знойный денверский полдень отправились на поиски работы. Мне даже думать о ней было противно. Эдди был в своем репертуаре и болтал без умолку. На рынке мы нашли человека, который согласился нанять нас обоих. Работа начиналась в четыре утра и заканчивалась в шесть вечера. Человек сказал:
– Я люблю работящих ребят.
– Я-то вам и нужен, – заявил Эдди, а вот насчет себя я так уверен не был. Придется совсем не спать, решил я. Впереди еще было столько интересного!
На следующее утро Эдди на работу явился, а я нет. Ночлегом я был обеспечен, Мейджор накупил полный ледник еды, в обмен на что я готовил и мыл посуду. События между тем затягивали меня все больше и больше. Как-то вечером у Роулинсов собралась большая компания. Мать Роулинсов была в отъезде. Рэй Роулинс обзвонил всех своих знакомых и каждому велел принести виски. Потом он прошелся по записной книжке на предмет девушек. Большую часть переговоров он поручил мне. Явилась целая команда девиц. Я позвонил Карло, чтобы выяснить, чем занят Дин. Карло ждал его к трем часам утра. К Карло я и направился после вечеринки.
Подвальная квартира Карло находилась на Грантстрит, в старом краснокирпичном пансионе, неподалеку от церкви. Надо было пройти переулком, спуститься по нескольким каменным ступеням, открыть старую обшарпанную дверь и одолеть нечто вроде погреба, в конце которого была дверь Карловой комнаты. Походила эта комната на жилище русского святого: сиротливая кровать, горящая свеча, сочащиеся влагой каменные стены и отдаленно напоминающая икону нелепая штуковина, которую Карло соорудил сам. Он прочел мне свое стихотворение. Называлось оно «Денверская хандра». Карло проснулся утром и услыхал, как на улице, возле его кельи, переговариваются «пошляки голуби»; он увидел, как на ветвях дремлют «печальные соловьи», они напоминали ему о матери. Город окутывала серая пелена. Горы, величественные Скалистые горы, которые, если посмотреть на запад, видны из любой части города, были «из папье-маше». Весь мир сошел с ума, окосел, стал абсолютно чужим. Дина Карло назвал «сыном радуги» – чьи тяжкие муки принимает на себя его исстрадавшийся фаллос. Он изобразил Дина «Эдиповым Эдди», которому приходится «соскребать с оконных стекол жевательную резинку». В своем подвале Карло предавался размышлениям над объемистым журналом, куда ежедневно заносил все происходящее – все, что делал и говорил Дин.
Дин явился точно по расписанию.
– Все улажено, – объявил он, – я развожусь с Мерилу, женюсь на Камилле, и мы с ней переезжаем в Сан-Франциско. Но только сначала мы с тобой, дорогой Карло, съездим в Техас, полюбуемся на Старого Буйвола Ли, этого доходягу, с которым я еще не знаком, а ведь вы оба так много мне о нем рассказывали, ну а потом я отправлюсь в Сан-Фран.
Затем они перешли к делу. Усевшись по-турецки на кровать, они уставились друг другу в глаза. Я сидел сгорбившись в ближайшем кресле и все виде
Страница 21
. Начали они с некой отвлеченной мысли и обсудили ее; напомнили друг другу еще один отвлеченный вопрос, позабытый в стремительном круговороте событий. Дин принес извинения, но дал обещание к этому вопросу вернуться и как следует его разобрать, пояснив примерами. Карло сказал:– А когда мы ехали через Уази, я хотел поделиться с тобой своими ощущениями по поводу твоей безумной страсти к малолитражкам, помнишь, как раз тогда ты показал на старого бродягу в мешковатых штанах и сказал, что он в точности похож на твоего отца?
– Да-да, конечно помню. Кроме всего прочего, это дало толчок целой веренице моих собственных мыслей, это было что-то невероятное, я должен был тебе рассказать, да вот позабыл, но теперь ты мне напомнил…
И родились две новые темы. Они перемололи и их. Потом Карло спросил Дина, откровенен ли тот, а главное – не утаивает ли чего в глубине души от него, Карло.
– Зачем ты опять об этом?
– Я хочу понять раз и навсегда…
– Давай спросим Сала. Сал, дорогой, ты же тут сидишь, слушаешь, что ты скажешь?
И я сказал:
– Ничего нельзя понять раз и навсегда, Карло. Это никому не дано. Мы и живем-то надеждой, что когда-нибудь нам это удастся.
– Нет, нет и нет! Ты несешь абсолютную чушь, романтическую ахинею в духе Вулфа! – возмутился Карло.
А Дин сказал:
– Я вовсе не это имел в виду, однако позволим Салу иметь собственное суждение, и вообще, Карло, разве ты не видишь, с каким… достоинством, что ли, он сидит и слушает нас? А ведь этот псих ехал сюда через всю страну… Нет, старик Сал вмешиваться не станет.
– Да не в том дело, что я не стану вмешиваться, – возразил я, – просто я не пойму, к чему вы оба клоните, чего пытаетесь добиться. По-моему, это чересчур для любого человека.
– Ты только и знаешь, что все отрицать.
– В таком случае объясните мне, чего вы хотите.
– Скажи ему.
– Нет, ты скажи.
– Нечего тут говорить, – сказал я и рассмеялся. На мне была шляпа Карло, я надвинул ее на глаза и произнес: – Я хочу спать.
– Бедняга Сал постоянно хочет спать.
Я промолчал. Они снова принялись за свое.
– Когда ты занял пятицентовик, которого не хватало на жареных цыплят…
– Нет, старина, на мясо по-мексикански! Вспомни-ка, «Звезда Техаса»!
– Да, я перепутал тот день со вторником. Так вот, когда ты занял пятицентовик, ты еще сказал… слушай, слушай, ты сказал: «Карло, это последний раз, когда я тебе навязываюсь», – будто мы с тобой и в самом деле договорились, что ты больше не будешь навязываться.
– Нет, нет, нет, я не это хотел сказать… выслушай лучше, если ты не против, дружище, я хочу вернуться к тому вечеру, когда Мерилу плакала в комнате, а я обратился к тебе, придав голосу особую искренность, которая, как мы оба знали, хоть и была наигранной, однако преследовала свою цель, короче, ломая комедию, я указал на то, что… Постой, это не то.
– Конечно, не то! Потому что ты забыл, что… Однако не буду я тебя попрекать. Ведь тогда я согласился… – И подобным образом они проговорили всю ночь напролет. На рассвете я очнулся. Они пытались уладить последние утренние разногласия.
– Когда я сказал тебе, что должен поспать из-за Мерилу, то есть из-за того, что мне надо повидать ее в десять утра, я позволил себе категорический тон не для того, чтобы оказать на тебя давление в связи с тем, что до этого ты говорил о ненужности сна, а только – только, уверяю тебя, ввиду того факта, что я, вне всякого сомнения, всенепременно и во что бы то ни стало просто обязан сейчас поспать, я имею в виду, старина, что у меня глаза закрываются, они уже горят, они устали, болят, нет больше сил…
– Ах, дитя, – сказал Карло.
– Нам просто необходимо сейчас поспать. Остановим машину.
– Ты не можешь остановить машину! – во весь голос завопил Карло. Запели первые птицы.
– Сейчас я подниму руку, – сказал Дин, – и мы прекратим разговор. К чему склоки, ведь нам обоим вполне понятно, что мы попросту прекращаем разговор и идем спать.
– Так ты машину не остановишь!
– Остановите машину, – сказал я. Они повернулись ко мне.
– Он все это время не спал и слушал. О чем ты думал, Сал?
Я ответил им, что думал о том, какие они поразительные маньяки, что я всю ночь провел, слушая их так, словно следил за механизмом часов, которые оказались на самой вершине Бертодского перевала и, несмотря на это, оставались изящными часиками с тончайшим на свете механизмом. Они заулыбались. Я направил на них указующий перст и произнес:
– Если и дальше так пойдет, вы оба рехнетесь, однако держите меня в курсе событий.
Я вышел и сел в трамвай, идущий в сторону дома, а сделанные из папье-маше горы Карло Маркса алели, освещаемые громадным солнцем, встающим с восточных равнин.
9
Вечером я отправился вместе со всеми в горы и пять дней не видел ни Дина, ни Карло. На выходные дни Бейб Роулинс получила в свое распоряжение хозяйскую машину. Мы прихватили с собой костюмы, завесили ими автомобильные окна и тронулись в направлении Сентрал-Сити: Рэй Роулинс за рулем, Тим Грэй – откинувшись н
Страница 22
заднем сиденье, а Бейб впереди. Я впервые смог увидеть глубинные районы Скалистых гор. Сентрал-Сити – это бывший шахтерский городок, который некогда называли Богатейшей Квадратной Милей на Свете. Какие-то старые хрычи, скитавшиеся по тамошним горкам, обнаружили в них настоящие залежи серебра. В одночасье разбогатев, они построили на крутом склоне, в самой гуще своих лачуг, живописный оперный театрик. Там пела Лилиан Рассел, пели и оперные дивы из Европы. Потом жители покинули Сентрал-Сити, он превратился в город-призрак и оставался им до тех пор, пока предприимчивые дельцы обновленного Запада не задумали его возродить. Они навели лоск на здание оперного театра, и там каждое лето стали выступать солисты Метрополитен-опера. Город превратился в место паломничества туристов со всех уголков страны, туда съезжались даже голливудские знаменитости.Мы поднялись в гору и оказались среди узких улочек, битком набитых пижонами всех мастей. Мне вспомнился Мейджоров Сэм. Да, Мейджор был прав. Тут же был и сам Мейджор, он неизменно пускал в ход свою неотразимую светскую улыбку и совершенно искренне охал и ахал по всякому поводу.
– Сал, – воскликнул он, схватив меня за руку, – ты только полюбуйся на этот старый городок! Только представь себе, каким он был сто… да какого черта, всего восемьдесят, шестьдесят лет назад! У них есть опера!
– Да, – сказал я, подделываясь под одного из его персонажей, – но они-то здесь.
– Ублюдки! – выругался он и все же, взяв под руку Бетти Грэй, отправился наслаждаться жизнью.
Блондинка Бейб Роулинс оказалась девицей предприимчивой. На окраине она знала один старый шахтерский домик, где мужской части нашей компании можно было ночевать все выходные. Надо было только как следует там убраться. Там же можно было закатывать грандиозные вечеринки. Это была ветхая развалюха, внутри которой лежал дюймовый слой пыли. Имелась там и веранда, а во дворе – колодец. Тим Грэй и Рэй Роулинс засучили рукава и принялись за уборку – этот каторжный труд отнял у них полдня и часть вечера. Однако с помощью целого ведра пива они превосходно со всем управились.
Что до меня, в тот день я был включен в список приглашенных в оперу, куда и направился в сопровождении Бейб. На мне был костюм Тима. Всего несколько дней назад явился я в Денвер бродягой; ныне же, втиснутый в строгий костюм, под руку с привлекательной нарядной блондинкой, я раскланивался со знаменитостями и вел непринужденные беседы в фойе под роскошными люстрами. Хотелось бы мне знать, что бы сказал, увидев меня, Миссисипи Джин.
Давали «Фиделио». «Что за мрак!» – стонал баритон, выбираясь из-под громадной глыбы, завалившей вход в подземную темницу. Меня это проняло до слез. Именно такой мне и представлялась жизнь. Я был так поглощен оперой, что позабыл на время всю свою суматошную жизнь и с головой ушел в великие скорбные бетховенские звуки и густую рембрандтовскую атмосферу сюжета.
– Ну, Сал, как тебе новая постановка? – с гордостью спросил меня на улице Денвер Д. Долл. Он был связан с оперной ассоциацией.
– Что за мрак, что за мрак! – сказал я. – Просто умопомрачительно!
– Теперь тебе надо непременно познакомиться с членами труппы, – все так же церемонно продолжил он, однако, позабыв, к счастью, о своих словах в круговороте прочих дел, куда-то исчез.
Мы с Бейб вернулись в наш шахтерский домик. Я скинул свой наряд и подключился к уборке. Работа была тяжелейшая. Посреди уже убранной комнаты восседал Роланд Мейджор, отказавшийся помогать. На столике перед ним стояли бутылка пива и стакан. Пока мы носились взад-вперед с ведрами и вениками, он предавался воспоминаниям.
– Эх, попили бы вы со мной «Чинзано», послушали бы музыкантов Бандоля – вот это жизнь! А летняя Нормандия, деревянные башмаки, чудесный старый кальвадос! Ну-ка, Сэм, – обратился он к невидимому приятелю, – достань вино из воды, посмотрим, достаточно ли оно охладилось, пока мы ловили рыбу, – Это уже прямо из Хемингуэя.
Мимо по улице шли девушки. Мы их окликнули:
– Эй, помогите-ка нам убраться в этом притоне. Вечером приглашаем всех!
Они присоединились к нам. Теперь на нас работала целая бригада. Вдобавок появились и сразу принялись за дело певцы оперного хора, большей частью молодые ребята. Зашло солнце.
На славу потрудившись, мы с Тимом и Роулинсом решили прифрантиться перед вечерним весельем. Через весь город мы направились в меблированные комнаты, где жили оперные знаменитости. Во тьме слышались первые звуки вечернего представления.
– То, что надо, – сказал Роулинс. – Хватайте бритвы и полотенца, наведем красоту.
Нагрузившись вдобавок щетками для волос и пузырьками с одеколонами и лосьонами, мы отправились в ванную, где с песнями искупались.
– Вот это красотища! – то и дело твердил Тим Грэй. – Ванная комната, полотенца, лосьоны, электрические бритвы – и все это принадлежит оперным звездам!
Вечер выдался чудесный. Сентрал-Сити находится на высоте двух миль. Сначала эта высота пьянит, потом от нее устаешь и в душе селится лихорадочное воз
Страница 23
уждение. По узкой темной улочке мы приблизились к сверкающему огнями оперному театру. Потом резко свернули вправо и наткнулись на ряд старых салунов с двухстворчатыми дверьми. Почти все туристы были в опере. Для начала мы взяли несколько больших кружек пива. В салуне стояла пианола. За дверьми черного хода виднелись освещенные луной горные склоны. Я испустил торжествующий клич. Вечер набирал обороты.Мы поспешили обратно, в свою шахтерскую лачугу. Подготовка к грандиозной вечеринке была там в самом разгаре. Бейб и Бетти наскоро разогрели сосиски с бобами, а потом мы начали танцевать и вплотную занялись пивом. Закончилась опера, и к нам целыми толпами повалили молоденькие девушки. У нас с Роулинсом и Тимом потекли слюнки. Немедленно сграбастав по девушке, мы пустились в пляс. Танцевали мы без всякой музыки. Гости все прибывали. Многие приносили выпивку. Мы умчались прошвырнуться по барам и моментально примчались назад. Ночь становилась все более бурной. Я пожалел, что с нами нет Дина и Карло, потом до меня дошло, что они чувствовали бы себя здесь не в своей тарелке. Ведь они были похожи на того выбирающегося из подземелья парня с его тюремным камнем и мраком – убогие хипстеры Америки, новое блаженное разбитое поколение, частью которого постепенно становился и я.
Появились ребята из хора. Они затянули «Милую Аделину», потом принялись распевать фразы типа «передай-ка мне пива» и «какого черта суешься», после чего пошли нескончаемые баритональные стоны из «Фи-де-лио!». «Ах, что за мрак!» – пел я. Девицы были неподражаемы. Они выходили с нами на задний двор целоваться и обниматься. В соседних комнатах были кровати, грязные и пыльные, на одну из них я усадил девицу и завел с ней разговор, но тут произошло внезапное вторжение молодых капельдинеров из оперы, которые, позабыв о приличиях, принялись тискать и целовать девушек. Эти подростки – пьяные, всклокоченные, возбужденные – испортили нам всю вечеринку. Через пять минут девиц и след простыл, и вечеринка под аккомпанемент криков и звона пивных бутылок вылилась в грандиозный мальчишник.
Мы с Рэем и Тимом решили совершить очередной набег на бары. Мейджор исчез, Бейб с Бетти исчезли. Мы поковыляли в ночь. Все бары от стойки до стены были забиты оперной публикой. Поверх голов что-то орал Мейджор. Энергичный очкастый Денвер Д. Долл пожимал всем и каждому руки со словами: «Добрый день, как поживаете?» Вот уже полночь настала, а он все твердил: «Добрый день, а вы как поживаете?» В один прекрасный момент я заметил, как он выходит на улицу с некой титулованной особой. Вернулся с женщиной средних лет. В следующую минуту он уже беседовал на улице с парочкой юных капельдинеров, а еще через минуту тряс мою руку, не узнавая меня и твердя: «С Новым годом, дружище!» Он опьянел не от спиртного, его пьянило то, что он по-настоящему любил, – непрерывный людской водоворот. Его знали все. «С Новым годом!» – неустанно выкрикивал он, а иногда: «Веселого Рождества!» На Рождество же он принимался поздравлять всех с кануном Дня Всех Святых.
В баре был тенор, окруженный всеобщим вниманием. Денвер Д. Долл давно настаивал на том, чтобы я с ним познакомился, а я пытался этого знакомства избежать. Звали тенора, кажется, Д’Аннунцио или что-то в этом духе. С ним была жена. Они угрюмо сидели за столиком. У стойки стоял некий аргентинский турист. Роулинс отпихнул его, пытаясь заставить посторониться. Тот обернулся и что-то пробурчал. Тогда Роулинс вручил мне свой стакан и одним ударом припечатал туриста к медному поручню. Это был нокаут. Поднялся шум. Мы с Тимом подхватили Роулинса и пустились наутек. Была такая сумятица, что шериф не сумел даже пробраться сквозь толпу и отыскать жертву. Роулинса никто опознать не смог. Мы направились в соседние бары. Навстречу по темной улице шатаясь брел Мейджор.
– Что за черт? Драка? Что ж вы меня не позвали?!
Со всех сторон раздавался громовой хохот. А мне было любопытно узнать, о чем думает сейчас Дух горы, и, посмотрев вверх, я увидел освещенные луной корабельные сосны, увидел призраки давно забытых шахтеров и едва поверил своим глазам. Той ночью на всех темных восточных склонах Скалистых гор царило безмолвие, нарушаемое лишь шепотом ветра, и только в ущелье раздавались наши крики. А по ту сторону горного массива был громадный западный склон, было большое плато, которое простиралось до Стимбоут-Спрингз, а там круто шло вниз и переходило в пустыню Восточное Колорадо и пустыню Юта. Все было окутано тьмой, а мы бесились и орали в своем горном приюте – безумные пьяные американцы в необъятной стране. Мы были на самой крыше Америки, и сдается мне, только и могли, что вопить, пытаясь докричаться до края ночи на востоке Равнин, откуда, быть может, уже шагал к нам седовласый старец, несущий Слово Господне, и в любую минуту он мог появиться и заставить нас умолкнуть.
Роулинс настаивал на возвращении в бар, где он затеял драку. Нам с Тимом это было не по душе, но бросить его мы не могли. Роулинс подошел к Д’Аннунцио, тому самому тенору, и выплеснул
Страница 24
ему в лицо стакан виски. Мы вытащили Роулинса на улицу. Вместе с присоединившимся к нам баритоном из хора мы отправились в городской бар, где собираются местные завсегдатаи. Там Рэй обозвал официантку шлюхой. У стойки выстроилась компания мрачного вида парней; они терпеть не могли туристов. Один из них сказал: «Советую вам, ребята, убраться отсюда, пока я буду считать до десяти». Мы последовали совету. Доковыляв до своей лачуги, мы улеглись спать.Наутро я проснулся и заворочался с боку на бок. С матраса поднялись большие клубы пыли. Я рванул на себя окно; оно было заколочено. На моей кровати оказался и Тим Грэй. Мы закашлялись и расчихались. Завтрак наш состоял из выдохшегося пива. Вернулась из гостиницы Бейб, и мы собрали пожитки.
Казалось, все кругом рушится. Когда мы шли к машине, Бейб поскользнулась и растянулась на земле. Бедняжка просто переутомилась. Мы с ее братом и Тимом помогли ей подняться. К нам в машину сели Мейджор и Бетти. Началось унылое возвращение в Денвер.
Неожиданно мы спустились с горы, и нашим взорам открылась безбрежная, как море, равнина Денвера. Словно из печи, на нас полыхнуло жаром. Мы затянули песни. Мне уже не терпелось отправиться в Сан-Франциско.
10
Вечером я разыскал Карло, и тот, к моему удивлению, сообщил мне, что был вместе с Дином в Сентрал-Сити.
– Чем же вы занимались?
– Да прошвырнулись по барам, а потом Дин угнал машину, и на обратном пути мы катились вниз по горным виражам со скоростью девяносто миль в час.
– Что-то я вас не видел.
– А мы и не знали, что ты тоже там.
– Знаешь, старина, я еду в Сан-Франциско.
– А Дин приберег тебе на вечер Риту.
– Вот как? Тогда отъезд откладывается.
У меня уже не было денег. Я отправил авиапочтой письмо тетушке с просьбой выслать пятьдесят долларов и с уверениями, что прошу деньги в последний раз. К тому же, как только я попаду на корабль, она сама начнет получать от меня деньги.
Затем я встретился с Ритой Беттенкорт и повел ее в свою квартиру. После долгих уговоров в темной передней я затащил ее в спальню. Она была милой девушкой, простодушной и искренней, и страшно робкой в постели. Я уверял ее, что все будет превосходно, и желал ей это доказать. Доказать это она мне позволила, но я был слишком нетерпелив и ничего доказать не смог. В темноте она вздохнула.
– Чего ты ждешь от жизни? – спросил я. Я всегда задавал девушкам этот вопрос.
– Не знаю, – ответила она. – Буду просто работать официанткой и жить дальше.
Она зевнула. Я прикрыл ей рот рукой и попросил не зевать. Я пытался рассказать ей о том, как меня волнует жизнь, и о том, чем бы мы могли с ней вдвоем заниматься. Говорил я ей все это, а сам намеревался не позже чем через два дня покинуть Денвер. Она устало отвернулась. Лежа на спине, мы глядели в потолок и думали, зачем это Бог сотворил жизнь такой печальной. Мы строили смутные планы встретиться в Фриско.
Подходила к концу моя короткая остановка в Денвере. Я отчетливо осознал это, когда проводил Риту домой и на обратном пути растянулся на лужайке перед старой церквушкой. Послушав разговоры собравшихся там нищих бродяг, я вновь захотел отправиться в путь. То и дело кто-нибудь из них вставал и сшибал у прохожего монетку. Они толковали о движущихся на север урожаях. Стояла мягкая теплая погода. Мне захотелось снова увидеть Риту, захотелось еще многое ей сказать и на этот раз заняться с ней любовью по-настоящему, унять ее страхи перед мужчинами. В Америке парни и девушки так уныло проводят время друг с другом. Желая выдать себя за людей искушенных, они сразу же, даже для приличия не поговорив, отдаются во власть секса. А говорить нужно не слова обольщения – нужен простой, откровенный разговор о душе, ведь жизнь священна и драгоценно каждое ее мгновение. До меня донесся рев паровоза. Это удалялся в сторону гор поезд Денвер – Рио-Гранде. Меня вновь влекла моя путеводная звезда.
По ночам мы с Мейджором вели грустные беседы.
– Ты читал «Зеленые холмы Африки»? Это лучшая вещь Хемингуэя.
Мы пожелали друг другу удачи, договорившись встретиться в Фриско. На улице, в тени большого дерева, я увидел Роулинса.
– Прощай, Рэй. Свидимся ли еще?
Я отправился на поиски Карло и Дина – и нигде не смог их найти. Тим Грэй помахал мне рукой и сказал:
– Значит, уезжаешь, эй? – Так мы обращались друг к другу: «эй».
– Ага, – сказал я.
Еще несколько дней я бесцельно бродил по Денверу. Каждый бродяга на Лаример-стрит казался мне отцом Дина Мориарти. Старый Дин Мориарти, Жестянщик – так его звали. Я зашел в гостиницу «Виндзор», где когда-то жили отец с сыном и где как-то ночью Дина разбудил, до смерти его напугав, безногий на роликовой доске, который делил с ними номер. Через всю комнату он прогрохотал на своих ужасных колесиках, чтобы дотронуться до мальчика. На углу Куртис и 15-й мне попалась на глаза коротконогая женщина-карлик, она продавала газеты. Я заходил в унылые притоны Куртис-стрит, шлялся среди молодых парней в джинсах и красных рубахах. Груды арахисовой скорлуп
Страница 25
, шатры-кинотеатры, тиры. Там, где кончалась сверкающая огнями улица, была тьма, а за этой тьмой – Запад. Я должен был ехать.На рассвете я отыскал Карло. Полистал его толстенный журнал, немного вздремнул, а утром, дождливым и серым, пришли Эд Данкел – шестифутовый великан, красавец Рой Джонсон и косолапый шулер Том Снарк. Рассевшись, они, смущенно улыбаясь, принялись слушать, как Карло Маркс читает им свои безумные апокалиптические стихи. Совершенно измочаленный, я тяжело опустился в свое кресло.
– О, денверские пташки! – орал Карло.
Потом мы гуськом вышли и зашагали по типичной денверской булыжной улочке, между вяло дымящимися мусоросжигателями. «По этой улочке я когда-то катал обруч», – говорил мне Чед Кинг. Мне захотелось увидеть, как он это делает, увидеть Денвер десять лет назад, когда все они были детьми – вся эта шайка – и солнечным весенним утром Скалистых гор катили свои обручи средь цветущих вишен по радостным улочкам, сулившим тогда так много. А Дин, грязный и оборванный, в полном одиночестве крался стороной, охваченный своими безумными страстями.
Мы с Роем Джонсоном прогулялись под моросящим дождем. Я зашел к девушке Эдди забрать свою шерстяную клетчатую рубаху, рубаху времен Шелтона, Небраска. Она была на месте, завернутая в бумагу и перевязанная, – не рубаха, а безмерная грусть в упаковке. Рой Джонсон сказал, что мы увидимся во Фриско. Во Фриско собирались все. Как раз подоспели тетушкины деньги. Зашло солнце, и Тим Грэй доехал со мной на трамвае до автобусной станции. Я купил билет до Сан-Франциско, потратив половину из своих пятидесяти долларов, и в два часа дня сел в автобус. Тим Грэй помахал мне на прощание рукой. Автобус оставил позади легендарные, полные страсти улицы Денвера. «Клянусь Богом, я вернусь посмотреть, что еще здесь произойдет!» – такое я дал себе обещание. Позвонив в последнюю минуту, Дин сказал, что они с Карло, быть может, приедут ко мне на Побережье. Задумавшись над его словами, я осознал, что за все это время не говорил с Дином и пяти минут.
11
К Реми Бонкуру я опоздал на две недели. Автобусная поездка из Денвера во Фриско прошла без приключений, разве что душа моя трепетала тем сильнее, чем ближе мы подъезжали к Фриско. Снова Шайенн, на этот раз днем, оттуда через горный кряж на запад, в полночь оставили позади Крестон и Скалистые горы, а на рассвете достигли Солт-Лейк-Сити – города поливальных машин, самого неподходящего места для появления Дина на свет. Потом Невада в лучах палящего солнца, к вечеру – Рино с его мерцающими китайскими улочками, дальше – Сьерра-Невада, сосны, звезды, горные домики, атрибуты романтических историй о Фриско, плачущая девочка на заднем сиденье: «Мама, когда же мы приедем домой, в Траки?» И сам Траки, по-домашнему уютный Траки, а потом – вниз по склону холма, к равнинам Сакраменто. Внезапно до меня дошло, что я уже в Калифорнии. Теплый пальмовый ветерок – ветерок, который можно поцеловать, – и пальмы. Скоростная магистраль вдоль легендарной реки Сакраменто, снова холмы, подъемы, спуски, и вдруг – бескрайняя гладь залива (перед самым рассветом), украшенная гирляндами сонных огней Фриско. На Оклендском мосту я впервые после Денвера крепко уснул, а на автобусной станции на углу Маркет и Четвертой резко встрепенулся, вспомнив, что нахожусь за три тысячи двести миль от тетушкиного дома в Патерсоне, Нью-Джерси. Словно изможденный призрак, выбрался я из автобуса – вот наконец и Фриско: длинные, не защищенные от ветра улицы с трамвайными проводами, окутанными туманом и белизной. Еле передвигая ноги, я одолел несколько кварталов. На углу Мишн и Третьей потребовали у меня утренней мелочи странного вида бродяги. Где-то звучала музыка. «Еще успею на все это насмотреться! А сейчас надо разыскать Реми Бонкура».
Милл-Сити, где жил Реми, являл собой скопление домиков в долине – муниципальных домиков, построенных во время войны для рабочих военно-морской верфи. Располагался он в довольно глубоком каньоне, склоны которого сплошь поросли деревьями. Специально для жителей новостройки были открыты лавки, парикмахерские и портняжные мастерские. По слухам, это была единственная община в Америке, где добровольно селились вместе белые и негры. И оказалось, что это чистая правда, – с тех пор я не видел больше такого буйного и счастливого места. На двери лачуги Реми была записка, приколотая три недели назад:
«Сал Парадайз! (Огромными печатными буквами.)
Если дома никого нет, влезай в окно.
Подпись:
Реми Бонкур».
Бумага уже посерела и имела потрепанный вид.
Я влез, а он был дома и спал со своей девушкой, Ли Энн, на кровати, которую, как он сказал потом, стащил с торгового судна. Вообразите себе палубного механика торгового корабля, который под покровом ночи крадется через борт с кроватью, а потом, из последних сил налегая на весла, гребет к берегу, и вы получите некоторое представление о Реми Бонкуре.
Я так подробно рассказываю о том, что произошло в Сан-Франциско, потому что все это тесно связано с последующими со
Страница 26
ытиями. С Реми Бонкуром я познакомился много лет назад, еще на курсах по подготовке в колледж. Но по-настоящему сблизила нас с ним моя бывшая жена. Как-то вечером он явился ко мне в студенческое общежитие и сказал: «Вставай, Парадайз, тебя пришел навестить старый маэстро». Я поднялся и, натягивая брюки, обронил на пол несколько монеток. Было всего лишь четыре часа. В колледже я только и делал, что спал. «Давай, давай и не разбрасывай по всей комнате свое золотишко. Я познакомился с бесподобной девочкой и вечером иду с ней в „Логово льва“». И он потащил меня с собой. Уже через неделю она стала моей девушкой.Реми – высокий, красивый, смуглый француз (в те времена он чем-то напоминал двадцатилетнего спекулянта с марсельского черного рынка). Будучи французом, он изъяснялся на мудреном американском. Английский же его был безупречен, как и французский. Одеваться он любил щеголевато и придерживался студенческого стиля. Любил он и бывать в обществе экстравагантных блондинок и сорить деньгами. Он никогда не винил меня в том, что я увел его девушку, это, скорее, связывало нас. Одному Богу известно, почему этот малый был мне так предан, за что питал ко мне такие нежные чувства.
К тому утру, когда я отыскал Реми в Милл-Сити, он уже успел впасть в нищету и переживал те черные дни, которые подстерегают молодых людей в середине третьего десятка. В ожидании судна он болтался на берегу, а на жизнь зарабатывал, служа в охране особого назначения в бараках за каньоном. Ли Энн обладала несносным характером и ежедневно устраивала Реми разносы. Всю неделю они экономили, а в субботу наведывались в город, чтобы за три часа истратить пятьдесят долларов. Дома Реми ходил в трусах и нелепой армейской фуражке. Ли Энн расхаживала с накрученными на бигуди волосами. Принаряженные таким образом, они всю неделю орали друг на друга. Отродясь не видывал я подобной грызни. А в субботу вечером, любезно улыбаясь друг другу, они с видом преуспевающих голливудских персонажей отбывали развлекаться.
Реми проснулся и увидел, как я лезу в окно. В ушах у меня зазвенел его дивный смех, едва ли не самый дивный на свете.
– А-а-а, Парадайз! Он лезет в окно, он точно следует инструкции! Где ты пропадал, ты же опоздал на две недели!
Он похлопал меня по спине и пихнул в бок Ли Энн. Привалясь к стене, он хохотал до слез, он так колотил по столу, что слышно было по всему Милл-Сити, а его великолепному долгому «а-а-а-а!» вторило эхо в каньоне.
– Парадайз! – орал он. – Единственный и неповторимый, незаменимый Парадайз!
Перед тем как появиться у Реми, я миновал рыбацкую деревушку Сосалито, и первое, что я произнес, было:
– В Сосалито, должно быть, полно итальянцев.
– В Сосалито, должно быть, полно итальянцев! – во весь голос закричал Реми. – А-а-а-а! – Он стукнул себя по лбу, грохнулся на кровать и едва не свалился на пол. – Ты слыхала, что сказал Парадайз? В Сосалито, должно быть, полно итальянцев! Аа-аа-х-х-аа-а! Ого-го! Блеск! Ну и ну! – От смеха он покраснел, как свекла. – Ох, доконаешь ты меня, Парадайз, ты же самый потешный малый на свете, наконец-то ты явился, он влез в окно, видела, Ли Энн, он последовал инструкции и влез в окно! А-а-ах! О-о-ох!
По соседству с Реми жил негр по имени мистер Сноу, и, что самое удивительное, его-то смех, уже вне всякого сомнения, не имел себе равных на всем белом свете – могу поклясться в этом на Библии. Смеяться этот мистер Сноу начинал за ужином, стоило его старухе-жене ляпнуть что-нибудь невпопад. Явно задыхаясь, он вставал из-за стола, прислонялся к стене, закатывал глаза и, издав стон, начинал. Шатаясь и опираясь о соседские стены, он вываливался на улицу и, пьяный от смеха, брел через погрузившийся в темноту Милл-Сити, призывая своим оглушительным победным кличем некоего дьявола-искусителя, который, должно быть, и подбивал его на подобные выходки. Не знаю, доел ли он хоть раз свой ужин. Не исключено, что Реми, сам того не подозревая, поднаторел в своем смехе благодаря этому удивительному мистеру Сноу. И хотя Реми испытывал острую нехватку денег и страдал от вздорного характера любимой женщины, смеяться он, по крайней мере, научился чуть ли не лучше всех на свете, и я уже ясно видел, как весело мы заживем в Фриско.
Расположились мы так: я – на раскладушке у окна, а Реми с Ли Энн на кровати у противоположной стены. Притрагиваться к Ли Энн мне было запрещено. Перво-наперво Реми произнес следующую речь:
– Я бы не хотел однажды обнаружить, что вы любезничаете за моей спиной. Не учите старого маэстро новому мотиву. Это моя свежая поговорка.
Я взглянул на Ли Энн. Аппетитное создание с золотисто-медовой кожей, она была лакомым кусочком, однако глаза ее горели ненавистью к нам обоим. Пределом ее мечтаний было выйти за богатого. Для этого она и приехала из заштатного городка в Орегоне и теперь проклинала тот день, когда связалась с Реми. В один из своих грандиозных, бьющих на эффект уик-эндов он потратил на нее сотню долларов, и она вообразила, что встретила наследного принца. Взамен она поп
Страница 27
ла в эту лачугу, где за неимением лучшего и застряла. Во Фриско она нашла работу и каждое утро вынуждена была садиться на перекрестке в междугородный автобус. Реми она так и не простила.Я был обязан засесть в лачуге и написать выдающийся сценарий для одной голливудской студии. С этим пухлым творением под мышкой Реми намеревался совершить перелет на стратосферном лайнере и всех нас обогатить. Ли Энн он хотел взять с собой, чтобы представить ее отцу своего приятеля, знаменитому режиссеру и близкому другу У. К. Филдза. Так что первую неделю я не вылезал из лачуги в Милл-Сити и яростно строчил некую печальную историю из нью-йоркской жизни, которая, как я полагал, удовлетворит голливудского режиссера, но беда была в том, что история получилась чересчур грустной. У Реми едва хватило сил дочитать сценарий до конца, но через несколько недель он все-таки отвез его в Голливуд. А Ли Энн так все надоело, так сильно она нас ненавидела, что ей было и вовсе не до чтения. Бесконечными дождливыми часами я выводил свои каракули и поглощал кофе. В конце концов я заявил Реми, что сценарий не пойдет. Надо было искать работу. Даже сигареты я был вынужден брать у них с Ли Энн. По лицу Реми скользнула тень разочарования – его нередко охватывало уныние из-за самых смехотворных вещей. Воистину у него было золотое сердце.
Реми договорился, чтобы меня тоже взяли охранником в бараки, где служил он сам. Пройдя все неизбежные формальности, я был удивлен, когда эти ублюдки меня все-таки наняли. Тамошний начальник полиции привел меня к присяге, мне выдали значок и дубинку, и я превратился в полицейского особой службы. Мне не давала покоя мысль о том, что бы по этому поводу сказали Дин, Карло и Старый Буйвол Ли. В дополнение к моей черной куртке и полицейской фуражке я должен был носить темно-синие брюки. Первые две недели мне приходилось надевать брюки Реми, а так как он был довольно высок и вдобавок от скуки не знал меры в еде и завел себе брюшко, в первую ночь я отправился на работу подпрыгивающей походкой Чарли Чаплина. Реми дал мне фонарик и автоматический пистолет тридцать второго калибра.
– Где ты взял эту пушку? – спросил я.
– Прошлым летом я ехал на Побережье, и в Норт-Платте, Небраска, выпрыгнул из вагона размять ноги. Смотрю – в витрине выставлен этот диковинный пистолет, я его, недолго думая, и купил. Еле успел на поезд.
Тут я попытался объяснить ему, что значит Норт-Платте для меня, рассказать, как я покупал там с ребятами виски, он же похлопал меня по плечу и заявил, что я самый потешный малый на свете.
Освещая себе дорогу фонариком, я поднимался по крутому южному склону каньона, выбирался на шоссе, забитое потоком мчащихся в ночи в сторону Фриско машин, с трудом, едва не падая, спускался по противоположному склону и оказывался на дне ущелья, где у ручья стоял фермерский домик и где каждую божью ночь меня облаивал один и тот же пес. Потом – торопливым шагом по серебристой пыльной дороге, под черными как смоль деревьями Калифорнии. Дорога эта напоминала дорогу в «Знаке Зорро» и все дороги во второразрядных вестернах. Во тьме я вынимал пистолет и изображал ковбоя. Одолев еще один подъем, я наконец попадал прямо к баракам. Бараки эти были предназначены для временного расселения рабочих, нанявшихся на заокеанские стройки. Приехавшие туда люди ждали, когда за ними придет корабль. Большинство направлялось на Окинаву. Почти все они от чего-то скрывались – и в основном от тюрьмы. Были среди них и уголовники из Алабамы, и аферисты из Нью-Йорка – всякий сброд отовсюду. И отлично понимая, какой тяжкий труд ждет их в течение целого года на Окинаве, они пили. Охрана особого назначения обязана была следить за тем, чтобы они не разнесли бараки. В главном здании – наспех сколоченной деревянной хибаре с разгороженными дощатыми стенами кабинетами – располагалась наша штаб-квартира. Там мы и сидели за шведским бюро, то вскидывая с бедра револьверы, то позевывая, а старые копы рассказывали всякие небылицы.
Исключая Реми и меня, это было гнусное сборище людей с полицейскими душонками. Мы с Реми всего лишь зарабатывали на жизнь, а тем хотелось производить аресты и в городе получать благодарности от начальника полиции. Судя по их словам, если ты не арестуешь хотя бы одного человека в месяц, тебя уволят. От одной перспективы произведения ареста у меня перехватывало дыхание. Ну а в ту ночь, когда в поселке поднялся адский шум, я, по правде говоря, и сам напился почище любого обитателя бараков.
График дежурств был составлен так, что в ту ночь я на целых шесть часов остался один-единственный коп на всю округу. И именно той ночью в бараках напились, казалось, все до единого. Это случилось потому, что наутро отплывал их корабль. Вот они и пили, словно моряки в ночь перед поднятием якоря. Я сидел в конторе, задрав ноги на стол и углубившись в чтение «Голубой книги», повествующей о приключениях в Орегоне и на севере страны, когда внезапно осознал, что привычную тишину ночи нарушает неумолчный гул бурной деятельности. Я вышел наружу.
Страница 28
Почти каждая треклятая хибара в округе была освещена. Отовсюду неслись крики и звон бьющихся бутылок. Для меня это означало победить или погибнуть. Я взял фонарик, подошел к двери самого шумного барака и постучал. Дверь приоткрылась дюймов на шесть.– А тебе чего надо?
– Я сегодня караулю бараки, и вам, ребята, полагается вести себя как можно тише.
Вот такую глупость я сморозил. Дверь захлопнулась у меня перед носом. Я стоял, уставившись в эту деревянную дверь. Все происходило по законам вестерна: пришло время отстаивать свои права. Я снова постучал. На этот раз дверь широко распахнулась.
– Послушайте, братва, – сказал я, – мне вовсе не хочется вам мешать, но если вы будете так шуметь, я потеряю работу.
– Кто ты такой?
– Я здесь работаю охранником.
– Что-то я тебя раньше не видел.
– Вот мой значок.
– А что это за пугач у тебя на заднице?
– Это не мой, – оправдывался я, – я его взял на время.
– Сделай одолжение, выпей стаканчик.
Я сделал одолжение и выпил два. Уходя, я сказал:
– Лады, ребята? Шуметь не будете? Иначе – сами понимаете, мне не поздоровится.
– Все в порядке, дружище, – ответили они, – Иди, делай свой обход. Захочешь еще выпить – заходи.
Таким вот образом я прошелся по всем баракам и довольно скоро был не трезвее всех прочих. На рассвете в мои обязанности входило поднятие американского флага на шестидесятифутовый шест. В то утро я поднял его вверх тормашками и отправился домой отсыпаться. Вечером, когда я вернулся, в конторе сидели кадровые копы, и вид у них был зловещий.
– Слушай-ка, друг, что это за шум тут был прошлой ночью? Поступили жалобы от людей, которые живут в домах за каньоном.
– Не знаю, – сказал я, – сейчас, по-моему, довольно тихо.
– Весь контингент уже отбыл. А ночью тебе полагалось поддерживать здесь порядок. Шеф, по твоей милости, рвет и мечет. И еще – тебе известно, что за поднятие американского флага на государственный шест вверх тормашками ты можешь попасть в тюрьму?
– Вверх тормашками?! – Я ужаснулся. Да и не мудрено было не заметить. Ведь каждое утро я проделывал это машинально.
– Дассэр, – сказал толстый коп, который двадцать два года прослужил охранником в Алькатрасе. – За такое можно угодить в тюрьму.
Остальные мрачно закивали. Сами-то они только и делали, что сиднем сидели, не отрывая задниц. Они гордились своей работой. Они бережно ухаживали за своим оружием и подолгу о нем рассуждали. У них руки чесались кого-нибудь пристрелить. Меня и Реми.
Пузатому копу, который служил охранником в Алькатрасе, было около шестидесяти. Он ушел в отставку, но не мог обойтись без атмосферы, всю жизнь дававшей пищу его пресной душе. Каждый вечер он приезжал в своем «Форде-35», минута в минуту отмечался и усаживался за шведское бюро. С превеликим трудом он пытался вникнуть в простенький бланк, который все мы должны были заполнять каждую ночь, – обходы, время, происшествия и так далее. Потом откидывался на спинку стула и заводил свои рассказы:
– Жаль, тебя не было здесь месяца два назад, когда мы с Кувалдой, – (еще один коп, юнец, который хотел стать техасским рейнджером, но вынужден был довольствоваться тогдашней своей участью), – арестовали пьяного в бараке «Джи». Видел бы ты, как лилась кровь, приятель! Сегодня ночью я тебя туда отведу и покажу пятна на стене. Он у нас от стенки к стенке летал. Сперва Кувалда ему врезал, а потом я, и тут уж он угомонился и пошел как миленький. Этот малый поклялся нас убить, когда выйдет из тюрьмы, – ему дали тридцать дней. Прошло уже шестьдесят дней, а он и носа не кажет.
В этом была вся соль рассказа. Они его так запугали, что у него не хватило духу вернуться и попытаться отомстить. После этого старый коп предался сладостным воспоминаниям об ужасах Алькатраса:
– На завтрак они у нас маршировали, словно армейский взвод. Все до единого шагали в ногу. Все было рассчитано по минутам. Жаль, ты этого не видал. Двадцать два года я прослужил там охранником. И ни разу не попал в переплет. Ребята знали, что с нами шутки плохи. Многие из тех, кто караулит заключенных, начинают проявлять мягкотелость, а такие-то как раз в переплет и попадают. Взять хотя бы тебя – судя по моим наблюдениям, ты этим людям даже сочувствуешь. – Он поднес ко рту свою трубку и пристально посмотрел на меня, – Знаешь, они этим злоупотребляют.
Я знал. Я сказал ему, что я не создан для работы в полиции.
– Да, но ты сам просился на эту работу. Однако теперь тебе придется решать окончательно, иначе ты никогда ничего не добьешься в жизни. Это твой долг. Ты принял присягу. В таких вещах отступать нельзя. Правопорядок надо поддерживать.
Мне нечего было ему возразить: он был прав. Я же мечтал только об одном: ускользнуть бы в ночь, где-нибудь скрыться, а потом взять да разузнать, чем занимаются люди в этой стране.
Другой полицейский, Кувалда – высокий, мускулистый, с бобриком черных волос и нервно подергивающейся шеей, – напоминал постоянно рвущегося в бой боксера. Разодет он был, словно техасский рейнджер былых
Страница 29
ремен. На бедре, довольно низко, он носил револьвер с патронной лентой, в руках – нечто вроде ременной плети, и весь он был в кожаной бахроме – не человек, а ходячая камера пыток. Плюс ко всему до блеска начищенные башмаки, длинная куртка, лихо заломленная шляпа – не хватало лишь сапог. Он то и дело демонстрировал мне борцовские приемы: подхватывал за промежность и проворно приподнимал. Если уж мериться силой, то я мог бы тем же приемом подбросить его до потолка и прекрасно это понимал. Однако Кувалде этого узнать так и не довелось – я опасался, что ему взбредет в голову устроить борцовский поединок. А поединок с подобным типом непременно закончился бы стрельбой. Я не сомневался, что стреляет он лучше: у меня в жизни не было пистолета. Мне и заряжать-то его было страшновато. Кувалда питал неистребимую страсть к арестам. Как-то ночью, когда мы дежурили с ним вдвоем, он вернулся с обхода багровый от бешенства.– Я велел ребятам в одном бараке вести себя потише, а они все еще шумят. Я им два раза это сказал. Я всем даю только два шанса. Но не три. Сейчас я туда вернусь и арестую их, ты пойдешь со мной.
– Может, я дам им третий шанс. – сказал я. – Я с ними поговорю.
– Нет, сэр. Я никому никогда не даю больше двух шансов.
Я вздохнул. Мы подошли к комнате нарушителей, Кувалда распахнул дверь и велел всем выходить по одному. Всем нам, попавшим в эту нелепую ситуацию, было чертовски стыдно. Вот вам типичная американская история. Каждый делает то, что, по его мнению, обязан делать. Что из того, если несколько человек громко разговаривают и коротают ночь за выпивкой? Однако Кувалде хотелось что-то нам всем доказать. На тот случай, если ребята на него набросятся, он прихватил с собой меня. А они вполне могли это сделать. Парни эти приходились друг другу братьями, они приехали из Алабамы. Мы все побрели в участок – возглавлял шествие Кувалда, я плелся сзади.
Один из ребят мне сказал:
– Передай этой жопе с ушами, что слишком усердствовать не стоит. Нас могут выгнать, и мы не доберемся до Окинавы.
– Я с ним поговорю.
В участке я попросил Кувалду не давать этому делу хода. Зардевшись от смущения, он ответил так, чтобы слышали все:
– Я всем даю только два шанса!
– Черт подери, тебя же не убудет, – сказал алабамец, – а мы можем потерять работу.
Кувалда молча заполнил протоколы ареста, однако арестовал он только одного. Он вызвал городскую патрульную машину, и парня забрали. Остальные угрюмо отправились восвояси.
– Что скажет теперь мамаша? – произнес кто-то из них.
Один подошел ко мне:
– Скажи этому техасскому сукину сыну, что если мой брат завтра к вечеру не выйдет на свободу, пускай задницу бережет.
Я передал это Кувалде, немного смягчив выражения, но он ничего не ответил. К счастью, арестованного быстро отпустили и все обошлось. Контингент вышел в море, на его место прибыла новая буйная команда. Если бы не Реми Бонкур, я не остался бы на этой работе и двух часов.
Но частенько мы дежурили по ночам вдвоем с Реми Бонкуром, и тогда все шло как по маслу. Мы лениво совершали наш первый вечерний обход. Реми дергал все дверные ручки, надеясь обнаружить незапертую дверь. Он говорил:
– Я уже давненько подумываю сделать из какого-нибудь пса первоклассного вора. Он бегал бы у меня по комнатам и таскал у ребят из карманов доллары. Я бы так его выдрессировал, чтобы он, кроме зелененьких, ничего не брал. Он бы их у меня круглые сутки вынюхивал. Будь такое в человеческих силах, я научил бы его брать одни двадцатки.
Реми был буквально напичкан безумными идеями. Про этого пса он твердил несколько недель. А незапертую дверь он обнаружил лишь однажды. Мне вся эта затея была не по душе, и я не спеша двинулся дальше по коридору. Реми украдкой отворил дверь – и оказался лицом к лицу с управляющим бараками. Лицо этого человека Реми ненавидел. Как-то он спросил меня: «Как звали того русского писателя, о котором ты все время твердишь, – он еще засовывал себе в башмак газеты, а цилиндр свой нашел на помойке? – Эта чепуха пришла Реми в голову после моих рассказов о Достоевском. – Ага, вспомнил, ну конечно – Достиоффски. С такой рожей, как у этого управляющего, можно иметь только одну фамилию – Достиоффски». И единственная незапертая дверь, которую он наконец обнаружил, как раз и оказалась дверью Достиоффски. Сквозь сон Д. услышал, как кто-то возится с дверной ручкой. Он вскочил и, как был, в пижаме, с видом вдвое более грозным, чем обычно, направился к двери. Когда Реми ее открыл, его взору предстало искаженное злобой и слепой яростью заспанное лицо.
– Что это значит?
– Я только попробовал, заперта ли дверь… Я думал, это… э-э… чулан. Я искал швабру.
– То есть как швабру?
– Ну, э-э…
Я шагнул вперед и сказал:
– Наверху один парень наблевал, в коридоре. Надо вытереть.
– Это не чулан. Это моя комната. Еще один подобный случай, и я потребую, чтобы с вами разобрались и вышвырнули вас на улицу! Вам это понятно?
– Наверху один парень наблевал, – повторил я.
– Чулан дальше по к
Страница 30
ридору. Вон там, – Он показал пальцем и принялся наблюдать, как мы ищем швабру, а потом с идиотским видом тащим ее наверх. Я сказал:– Черт подери, Реми, вечно мы из-за тебя попадаем в дурацкие истории. Может, хватит? Что это тебе приспичило воровать?
– Дело в том, что этот мир мне кое-что задолжал. И нечего учить старого маэстро новому мотиву. Будешь и дальше толкать такие речи – и тебя стану звать Достиоффски.
Реми был просто ребенок. Еще давным-давно, во Франции, в тоскливые школьные годы, он был лишен всего. Приемные родители попросту запихивали его в школу и бросали на произвол судьбы. Его унижали и запугивали и выгоняли почти из каждой школы. Он бродил в ночи по дорогам Франции и, пользуясь своим невинным словарным запасом, изобретал проклятия. Теперь же он стремился вновь заполучить все, что потерял. А потерям его не было конца; казалось, это будет тянуться вечно.
Любимым нашим местом была закусочная при бараках. Сначала мы убеждались, что за нами никто не наблюдает, а главное – что нас тайком не выслеживает ни один из наших дружков-полицейских. Затем я садился на корточки, а Реми вставал мне на плечи и лез наверх. Он открывал окно, которое всегда оказывалось незапертым, потому что он заботился об этом еще с вечера, протискивался внутрь и спрыгивал на разделочный стол. Я был попроворней и, подтянувшись, влезал следом. Потом мы направлялись к буфетной стойке, возле которой становились явью мои детские мечты: я вскрывал шоколадное мороженое, запускал в коробку пятерню и, вытащив громадный кусок, принимался его облизывать. После чего мы доверху набивали коробки из-под мороженого едой, не забывая при этом о шоколадном сиропе, а иногда и о клубнике, обследовали кухни и открывали ледники, чтобы посмотреть, нельзя ли чего унести еще и в карманах. Случалось, я отдирал кусок ростбифа и заворачивал его в салфетку.
– Знаешь, что сказал президент Трумэн? – говорил по этому поводу Реми. – Мы должны снизить стоимость жизни.
Как-то ночью я долго ждал, пока Реми заполнит всякой всячиной громадную коробку, которую мы потом не сумели пропихнуть в окно. Реми пришлось все вынимать и класть на место. Той же ночью, когда его дежурство закончилось и я остался один, произошла странная история. Я прогуливался по старой тропе вдоль каньона, надеясь повстречать оленя (Реми олени попадались, даже в 1947 году те места были еще дикими). Вдруг в темноте раздался страшный шум. Кто-то пыхтел и отдувался. Решив, что во тьме на меня собирается напасть носорог, я выхватил пистолет. Во мраке каньона я увидел высоченное существо с огромной головой. И тут меня осенило – это же Реми с гигантской продуктовой коробкой на плече. Под ее невероятной тяжестью он стонал и охал. Где-то отыскав ключ от закусочной, он все-таки вынес свою провизию через главный вход. Я сказал:
– Реми, я думал, ты давно дома. Какого черта тебе тут надо?
– Парадайз, – отвечал он, – я уже устал повторять тебе слова президента Трумэна: мы должны снизить стоимость жизни. – И он, пыхтя и отдуваясь, скрылся во тьме.
Кстати, я уже описывал ту ужасную тропу, что по горам по долам вела к нашей лачуге. Реми вскоре вернулся ко мне, спрятав продукты в высокой траве.
– Сал, одному мне это не донести. Давай разложим все в две коробки, и ты мне поможешь.
– Я же на дежурстве.
– Я тут посторожу, пока тебя не будет. Жить становится все труднее. Нам только и остается, что напрягаться из последних сил, вот и весь сказ. – Он вытер лицо. – Ох! Я уже сколько раз тебе говорил, Сал: мы с тобой друзья-приятели, и делать нам все это надо сообща. Другого выхода просто нет. Все эти Достиоффски, копы, Ли Энн – все гнусные медные лбы на всем белом свете готовы с нас шкуру содрать. Все они плетут против нас интриги, и не сносить нам с тобой головы, если не будем держаться вместе. У них припасено для нас кое-что пострашнее, чем обычные мелкие пакости. Запомни это. И не учи старого маэстро новому мотиву.
И тут я спросил:
– Собираемся ли мы когда-нибудь наниматься на корабль?
Уже десять недель мы занимались одним и тем же. Я зарабатывал пятьдесят пять долларов в неделю и около сорока из них высылал тетушке. За все это время я выбрался в Сан-Франциско только на один вечер. Жизнь моя замкнулась в лачуге, в созерцании баталий Реми и Ли Энн, а на ночь я уходил в бараки.
Но Реми уже исчез во тьме, а вернулся со второй коробкой. Мы с ним потащились по старой дороге Зорро. Милей выше мы вывалили продукты на кухонный стол Ли Энн. Она проснулась и вытаращила глаза.
– Знаешь, что сказал президент Трумэн?
Ли Энн была в восторге. Неожиданно мне пришло в голову, что в Америке все – прирожденные воры. У меня и у самого начались заскоки, я даже пытался проверять запоры на дверях. Остальные копы уже начинали что-то подозревать. Читая все в наших глазах, они, с их неизменным чутьем, догадывались, что у нас на уме. Многолетний опыт позволял им разбираться в таких, как мы с Реми.
Днем мы вышли из дома с пистолетом и средь холмов попытались подстрелить перепелку. Ре
Страница 31
и подкрался к квохчущим птицам и футов с трех произвел залп из своего 32-го калибра. Он промазал. Леса Калифорнии, да и вся Америка, огласились его потрясающим хохотом.– Пришла пора нам с тобой навестить Бананового Короля.
Была суббота. Мы принарядились и направились на перекресток к автобусной станции. В Сан-Франциско мы принялись слоняться по улицам. И всюду нас сопровождало эхо звонкого хохота Реми.
– Ты должен написать рассказ про Бананового Короля, – твердил он. – И не вздумай провести старого маэстро и написать о чем-нибудь другом, Банановый Король – вот твоя тема. Вон он стоит, Банановый Король.
Банановый Король оказался стариком, торгующим на углу бананами. Я затосковал. Но Реми пихал меня в бок и даже тащил за ворот.
– Когда ты напишешь о Банановом Короле, ты напишешь о том, как интересен каждый человек.
Я заявил, что мне наплевать на Бананового Короля.
– Пока ты не поймешь, как много значит Банановый Король, ты так ничего и не узнаешь о том, насколько интересен каждый человек на свете, – убежденно повторил Реми.
В бухте стояло на якоре старое, проржавевшее грузовое судно, которое использовалось как бакен. Реми горел желанием туда сплавать, поэтому в один прекрасный день Ли Энн уложила в сумку завтрак, мы взяли напрокат лодку и отплыли. Реми прихватил с собой какие-то инструменты. На судне Ли Энн разделась догола и улеглась на мостике загорать. Я любовался ею со стороны. Реми сразу же спустился в котельное отделение, где сновали крысы, и принялся колошматить по стенам в поисках медной обшивки, которой там не оказалось. Я расположился в полуразрушенной офицерской кают-компании. Этот старый-престарый корабль был когда-то прекрасно оборудован – остались еще завитки орнамента на дереве и встроенные матросские сундучки. Это был призрак Сан-Франциско времен Джека Лондона. Я грезил, сидя за столом в залитой солнцем кают-компании. Давным-давно, в незапамятные времена, здесь обедал голубоглазый капитан.
Я спустился в недра судна к Реми. Он энергично отдирал все подряд.
– Ничего! Я-то думал, тут будет медь, думал, будет хоть парочка старых гаечных ключей. Этот корабль обчистила целая шайка ворюг.
Корабль стоял в бухте долгие годы. Рука, укравшая медь, уже давно перестала быть рукой. Я сказал Реми:
– С каким наслаждением я бы переночевал на этом старом суденышке! Только представь: сгустился туман, посудина вся скрипит, и слышно, как завывают бакены.
Реми был поражен; его восхищение мною удвоилось.
– Сал, если у тебя хватит духу это сделать, я заплачу тебе пять долларов. Ты что, не понимаешь, ведь на посудину могут являться призраки бывших капитанов! Да я не просто дам тебе пятерку, я привезу тебя сюда на лодке, обеспечу едой и вдобавок оставлю одеяла и свечи.
– По рукам! – сказал я.
Реми помчался рассказать о нашем уговоре Ли Энн. Я готов был броситься на нее с мачты, однако держал слово, данное мною Реми. И старался на нее не смотреть.
Тем временем я стал чаще бывать в Фриско. Чего только я не предпринимал, чтобы завести себе девушку! Однажды я до самого рассвета просидел на скамейке с одной блондинкой из Миннесоты – и безуспешно. В городе было полно гомиков. Несколько раз я брал с собой в Сан-Фран пистолет, и как только в уборной бара ко мне приближался гомик, я доставал пистолет и говорил: «Что-что? Что ты сказал?» – он удирал. Сам не знаю, зачем я это делал. У меня было множество знакомых гомиков во всех концах страны. Наверно, все дело было в том, что в Сан-Франциско я страдал от одиночества, да еще в том, что у меня был пистолет. Должен же я был кому-то его показывать! Проходя мимо ювелирной лавки, я едва не поддался внезапному искушению выстрелить в витрину, забрать самые лучшие кольца и браслеты и подарить их Ли Энн. Потом мы с ней могли бы сбежать в Неваду. Я понял, что если в ближайшее время не уеду из Фриско, то попросту свихнусь.
Я писал длинные письма Дину и Карло, которые в ту пору гостили у Старого Буйвола, в его хижине в районе болотистой техасской дельты. Они отвечали, что с удовольствием приедут ко мне в Сан-Фран, как только будет готово то да се. А между тем у нас с Реми и Ли Энн все пошло наперекосяк. Начались сентябрьские дожди, а с ними – и взаимные упреки. Реми с Ли Энн слетали в Голливуд с моим никчемным, дурацким киносценарием, и ничего у них не вышло. Знаменитый режиссер был пьян и даже не взглянул в их сторону. Они пооколачивались возле его коттеджа в Малибу-Бич, где на глазах у прочих гостей затеяли драку, а потом вернулись домой.
Печальный итог всему этому подвела поездка на ипподром. Сунув в карман свои сбережения – около сотни долларов, Реми выдал мне кое-что из одежды, подхватил под руку Ли Энн, и мы отправились на ипподром «Золотые ворота», что неподалеку от Ричмонда, на противоположном берегу залива. Как бы в доказательство широты своей души Реми сложил половину ворованных продуктов в огромный бумажный пакет и отвез знакомой бедной вдове, которая жила в Ричмонде, в таком же муниципальном поселке, как наш, где развевает
Страница 32
я в лучах калифорнийского солнца выстиранное белье. Мы поехали туда вместе с ним. Нас встретили грустные маленькие оборвыши. Женщина поблагодарила Реми. Она была сестрой одного моряка, которого он едва знал.– Не беспокойтесь, миссис Картер, – произнес Реми самым своим деликатным и учтивым тоном, – Там, где мы это взяли, осталось намного больше.
На ипподроме Реми делал невероятные двадцатидолларовые ставки и уже к седьмому заезду был разорен. Поставил он и проследние два доллара, припасенные нами на еду, и проиграл. В Сан-Франциско нам пришлось возвращаться автостопом. Вновь я был в дороге. Какой-то господин подвез нас на своей шикарной машине. Я сел впереди, рядом с ним. Реми пытался на ходу сочинить историю о том, как он потерял под трибунами ипподрома бумажник.
– Если уж начистоту, – сказал я, – мы проиграли все деньги на скачках и, чтобы не ездить больше с ипподрома на попутках, с сегодняшнего дня будем ходить только к букмекеру, верно, Реми?
От стыда Реми залился краской. В конце концов наш водитель признался, что является одним из управляющих ипподрома «Золотые ворота». Он высадил нас у первоклассного отеля «Палас», и мы смотрели ему вслед, пока он не исчез из виду, скрывшись в сиянии роскошных люстр – с гордо поднятой головой, битком набитый деньгами.
– Ох, не могу! – стонал Реми на вечерних улицах Фриско. – Парадайз едет с человеком, который держит ипподром, и клянется перейти на букмекеров! Ли Энн, Ли Энн! – Он принялся ее тормошить и тискать. – Нет, он решительно самый потешный малый на свете! В Сосалито, должно быть, полно итальянцев! А-а-ах-ха-ха! – Чтобы всласть насмеяться, он обхватил руками столб.
Ночью полил дождь. Ли Энн то и дело бросала на нас презрительные взгляды. В доме не осталось ни цента. Дождь барабанил по крыше.
– Зарядил на неделю, – сказал Реми.
Он снял свой элегантный костюм и вновь был в жалких трусах, футболке и армейской фуражке. Опустив свои чудесные печальные карие глаза, он разглядывал дощатый пол. На столе лежал пистолет. Слышно было, как где-то в дождливой ночи помирает со смеху мистер Сноу.
– Мне уже осточертел этот сукин сын, – раздраженно произнесла Ли Энн.
Ей не терпелось нарваться на скандал. Она принялась подначивать Реми, который был занят просмотром своей черной книжечки с именами людей, большей частью моряков, задолжавших ему деньги. Рядом с этими именами он красными чернилами выводил ругательства. Я содрогался при мысли о том, что тоже могу в один прекрасный день угодить в эту книжечку. В последнее время я стал посылать тетушке столько денег, что на продукты у меня оставалось лишь четыре-пять долларов в неделю. Придерживаясь того, о чем говорил президент Трумэн, я добавлял еще на несколько долларов провизии. Но Реми казалось, что я свою долю не вношу, поэтому он с некоторых пор начал обклеивать стены ванной счетами из бакалейной лавки, длинными лентами счетов с перечнем цен, чтобы, глядя на них, я все осознал. Ли Энн была убеждена, что Реми прячет от нее деньги. По правде говоря, она и меня в этом обвиняла. Она грозилась уйти от Реми.
Реми презрительно скривил губы:
– И куда же ты пойдешь, интересно знать?
– К Джимми.
– К Джимми? К кассиру с ипподрома?! Слышишь, Сал? Ли Энн собирается надеть хомут на ипподромного кассира. Не забудь прихватить с собой метлу, дорогуша, лошади на этой неделе до отвала нажрутся овса на мою сотнягу.
Дело принимало все более серьезный оборот. Шумел дождь. Ли Энн поселилась в этом доме раньше, поэтому она велела Реми собирать вещи и уматывать. Он начал укладываться. Представив себе, каково мне будет сидеть в поливаемой дождем лачуге наедине с этой бешеной мегерой, я попытался вмешаться. Реми оттолкнул Ли Энн. Та метнулась к пистолету. Реми отдал пистолет мне и велел его спрятать; в пистолете была обойма с восемью патронами. Ли Энн принялась орать, а наоравшись, надела плащ и отправилась в слякоть на поиски полицейского, к тому же ей понадобился не просто полицейский, а не кто иной, как наш старый приятель Алькатрас. К счастью, того не оказалось дома. Она вернулась, насквозь промокшая. Я забился в свой угол и уткнулся лицом в колени. Господи, зачем я торчу здесь, в трех тысячах миль от дома? Зачем я сюда приехал? Где-то теперь мой неспешный корабль в Китай?
– И еще одно, ты, потаскун! – вопила Ли Энн. – С сегодняшнего дня я больше не готовлю тебе ни твои похабные мозги с яйцами, ни твоего похабного барашка, приправленного керри, нечего тут набивать свое похабное брюхо, хватит жиреть и наглеть у меня на глазах!
– Очень хорошо, – тихо сказал Реми. – Просто превосходно. Когда я с тобой связался, я и не ждал роз и фантазий, не удивлен я и на этот раз. Я пытался кое-что для тебя сделать – да и ради вас обоих я из сил выбивался. И оба вы меня подвели. Я страшно, страшно в вас разочарован, – продолжал он совершенно искренне. – Я-то думал, мы вместе на что-то способны, на что-то настоящее, долговечное, я ведь старался – летал в Голливуд, нашел Салу работу, покупал тебе красивые платья, я пыта
Страница 33
ся представить тебя самым замечательным людям Сан-Франциско. Вы же оба отказывались выполнять даже самые мелкие мои просьбы. Да я и не просил ничего в ответ. Теперь же я прошу об одном, последнем одолжении, и больше мне от вас ничего не надо. В субботу вечером приезжает в Сан-Франциско мой отчим. Все, о чем я прошу, – это чтобы вы поехали со мной и постарались вести себя так, будто все, что я ему писал, – правда. Короче, ты, Ли Энн, – моя девушка, а ты, Сал, – мой друг. В субботу я договорился занять сотню долларов. И собираюсь позаботиться о том, чтобы отец не скучал и мог уехать спокойно, не имея ни малейшего повода за меня беспокоиться.Я был удивлен. Отчим Реми был известным врачом, имевшим практику в Вене, Париже и Лондоне. Я сказал:
– Ты что, серьезно собираешься потратить на отчима сто долларов? Да ты и в глаза не видел столько денег, сколько есть у него! Ты же влезешь в долги, старина!
– Все правильно, – тихо произнес Реми, и в голосе его послышались нотки человека, потерпевшего поражение. – Я прошу вас только об одной последней вещи – постарайтесь сделать так, чтобы все хотя бы выглядело пристойно, постарайтесь произвести хорошее впечатление. Я люблю своего отчима и уважаю его. Он приезжает с молодой женой. И надо отнестись к нему учтиво.
Бывали моменты, когда трудно было сыскать более добропорядочного джентльмена, чем Реми. Ли Энн была потрясена, она уже с нетерпением ждала встречи с отчимом. Она считала, что он может послужить добычей, которой так и не стал его сын.
Настал субботний вечер. Я уже бросил полицейскую службу, успев унести ноги, пока меня не выгнали за недостаточное количество арестов, и вечер этот должен был стать моим прощальным. Перво-наперво Реми и Ли Энн направились к отчиму в его гостиничный номер. У меня были деньги на дорогу, и я накачался спиртным в баре на первом этаже. Потом, страшно опоздав, я поднялся к ним. Дверь открыл отец Реми – представительный высокий мужчина в пенсне.
– А, – выговорил я, увидев его, – Мсье Бонкур, как поживате? Je suis haul!
Эти слова я выкрикнул в полной уверенности, что по-французски они должны означать: «Я немного навеселе», однако ровным счетом ничего они по-французски не означали. Доктор растерялся. Так я начал с того, что подложил свинью Реми, которому пришлось за меня краснеть.
Обедать мы отправились в шикарный ресторан – к «Альфреду» в Норт-Бич, где бедняга Реми истратил на нас пятерых добрые полсотни долларов – на напитки и все такое прочее. И тут случилось самое страшное. В баре у «Альфреда» сидел не кто иной, как мой старый друг Роланд Мейджор! Он только что прибыл из Денвера и уже получил работу в одной сан-францисской газете. Пьян он был как сапожник. Он даже не удосужился побриться. Подлетев к нам, он с размаху ударил меня по спине в тот самый момент, когда я подносил ко рту стакан виски. Потом он шлепнулся на сиденье нашей кабинки рядом с доктором Бонкуром и, желая поговорить со мной, наклонился над его супом. Реми был красный как рак.
– Ты не представишь нам своего друга, Сал? – выдавив улыбку, спросил Реми.
– Роланд Мейджор из сан-францисской «Аргус», – произнес я, пытаясь сохранять невозмутимость. Ли Энн готова была лопнуть от злости.
Мейджор попытался завести непринужденную беседу с месье.
– Ну и как, нравится вам преподавать в школе французский? – прокричал он ему в самое ухо.
– Пардон, но я не преподаю французский.
– Разве? А я-то думал, вы преподаете французский. – Мейджор грубил совершенно сознательно. Мне вспомнилась та ночь в Денвере, когда он не дал нам устроить вечеринку; но я его простил.
Я простил всех, я махнул на все рукой, я напился. С молодой женой доктора я заговорил о розах и фантазиях. Пил я так много, что каждые две минуты вынужден был выходить в уборную, а для этого приходилось прыгать через колени д-ра Бонкура. Все разваливалось на части. Мне больше нечего было делать в Сан-Франциско. Никогда больше Реми не будет со мной разговаривать. Это было ужасно, потому что я очень любил Реми, и вдобавок я был одним из тех очень немногих людей, которые знали, какой он благородный, искренний малый. Чтобы весь этот кошмар остался для него позади, потребуются годы. Все случившееся было просто катастрофой в сравнении с тем, о чем я писал ему из Патерсона, когда планировал пересечь Америку по красной линии дороги номер шесть. И вот я добрался до самого края Америки – дальше уже не было земли, и некуда было ехать, только назад. Я принял решение совершить хотя бы небольшое турне: тотчас же отправиться в Голливуд, а оттуда – через Техас, чтобы повидать свою болотную шайку. И к черту все остальное.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/dzhek-keruak/v-doroge-3/?lfrom=201227127) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, We
Страница 34
Money, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.notes
Сноски
1
Тюрьма в штате Нью-Йорк (здесь и далее – прим. перев.).
2
Психиатрическая лечебница в Нью-Йорке.
3
Бар в одноименном районе Чикаго.
4
У. К. Филдз (Уильям Клод Дюкенфилд, 1880–1946) – знаменитый американский актер и эстрадный комик.


